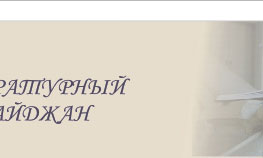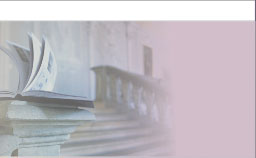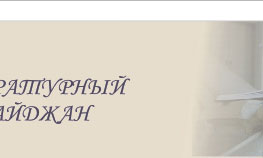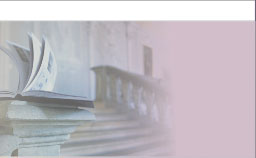|
Уровень Ибсена
После античной драматургии Шекспиру удалось поднять мировую драматургию на новый уровень.
После Шекспира новый уровень драматургии заявил Ибсен.
Даже Чехов является представителем драматургии ибсеновского уровня (скрытым, «замаскированным», но представителем).
Ибсен – отец современной драматургии.
Шекспир – дед, античная драматургия – фундамент.
О Мориаке и Моруа
Франсуа Мориак и Андре Моруа представляются мне Дон Кихотом и Санчо Панса современной французской литературы.
Трудно однозначно определить, кто из них Дон Кихот, а кто Санчо Панса, потому что иногда Мориак выглядит Дон Кихотом, а Моруа Санчо Панса, иногда – наоборот; с каждым новым произведением этих писателей «распределение ролей» круто меняется.
Может, трудность «идентификации» заключается также и в том, что и Моруа (помню, с каким удовольствием переводил я один из его рассказов2), и Мориак родились в одном и том же году (1885), а свой жизненный путь оба завершили, преодолев отметку восемьдесят (82 и 85 соответственно).
Новеллы Сайкаку
Вот уже третий день без отрыва читаю новеллы Ихара Сайкаку.
Русский литературовед Т.Редько-Добровольская ставит Сайкаку в один ряд с такими его европейскими современниками, как Бокаччо, Чосер, Рабле, Сервантес.
Должен признаться, что этот список вызывает во мне, мягко говоря, странное чувство.
Речь не идет о том, что Сайкаку не достоин стоять в одном ряду с этими гигантами, отнюдь.
Сайкаку с полным на то правом может быть отнесен к столь блестящей плеяде гениев. За неполный 51 год жизни ему посчастливилось с такой невообразимой точностью и глубиной создать образ Японии и японца, что и 350 лет спустя они оживают перед глазами читателя, врезаются в память и живут там, как старые, добрые знакомые.
Дело в том, что (это мое, естественно, личное впечатление) Сайкаку (как, впрочем, и вся классическая японская литература!) является представителем иной цивилизации, а иногда мне вдруг кажется, что классическая японская литература со всем своим миром чувств, моральным кодексом, способом видения и отображения, чувствования и передачи чувств есть ни что иное, как выражение жизненного опыта инопланетян.
Литературная аналогия
Разумеется, ни Доде, давший французской (и мировой!) литературе Тартарена из Тараскона, ни читатели, с первого же прочтения принявшие этого героя, не знали и не ведали о том, что где-то там, в далекой стране под названием Азербайджан этот персонаж, именуемый здесь Овчу (Охотник) Пирим уже много веков охотится в фольклоре азербайджанцев.
Вот и встретились «бродячие сюжеты»…
Дрюон испугался действительности
По мере того, как Морис Дрюон описывал сильных мира сего, его талант стал проникать в такие глубины, что Дрюон как бы испугался (ужаснулся?) вероятности задохнуться в этих глубинах. И тотчас же «переквалифицировался» в историка.
По мне, Дрюон, написавший «Сильные мира сего», – большой писатель, обладающий своим Словом.
А вот Дрюон, создавший цикл «Проклятые короли», конечно же, остается талантливым писателем, но здесь он все время занят обманом своего таланта.
Удары по Горькому
Дважды в ХХ веке СССР нанес тяжелые удары по Горькому.
В первый раз – в качестве тоталитарного государства, когда постарался во что бы то ни стало превратить писателя в идола и в административном порядке узаконил этот статус.
Во второй раз – после своего распада, когда новая литературная генерация, появившаяся в условиях конъюнктуры (на сей раз демократической!), во что бы то ни стало вознамерилась низвергнуть Горького.
Надеюсь, что в XXI веке Горького оставят в покое, и он будет наконец-то самим собой.
Метаморфоза
В первой половине XIX века Лермонтов открыл «героя своего времени» – Печорина, но по мере приближения XIX века к веку ХХ-му «герой времени» превратился в «милого друга» – Жоржа Дюруа Мопассана.
Тайна Конрада
В литературе XIX века есть для меня некое странное, необъяснимое явление (чудо?!) под названием Дж.Конрад.
Вот, например, еврей Гейне – великий немецкий поэт: родился в Германии, писал на немецком и его творчество выражает Германию.
Или украинец Гоголь– великий русский писатель: родился в России, писал на русском и его «Мертвые души», также как и «Ревизор», полностью составлены из подлинно русских типажей.
Русский Набоков родился в России, в эмиграции начал писать на английском, но при этом остался русским писателем, ибо его произведения являются продуктом русского художественного сознания.
Список можно продолжить, но вернемся к заявленной проблеме.
Поляк Дж.Конрад только в 23 года переезжает в Англию, там начинает заниматься мореплаванием и… становится английским писателем!
Невероятно, но факт остается фактом: будущий классик английской литературы, тонкий стилист и блестящий знаток английского языка приобщился к нему через переводы на польский язык.
«Лорд Джим», «Нестромо», «Тайный шпион» – эти произведения по всем своим показателям являются образцами самовыражения именно английского писателя.
Воистину, тайна сия велика есть!
Блестящий гермафродитский талант
Я не считаю правильным разделение писателей по половому признаку. В литературе нет женских и мужских писателей, единственный критерий – талант.
Правда, бывают исключения из правил, когда талант «выдает» пол своего обладателя.
В этом смысле Ф.Саган нельзя отнести к разряду писателей-мужчин.
В то же время, судя по таким ее произведениям, как «Здравствуй, грусть», «Печальный взгляд», «Немного солнца в холодной воде», в особенности по повести «Любите ли вы Брамса?» назвать ее женской писательницей весьма трудно.
В таком случае, Франсуаза Саган – это литературный гермафродит, обладающий блестящим писательским талантом?
Проза ХХ века
В XIX веке гегемоном, определяющим магистральное направление мировой прозы, выступают русская (Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Чехов…) и французская (Бальзак, Стендаль, Гюго, Золя, Флобер, Мопассан…) проза.
В ХХ веке на эту роль претендует, в первую очередь, немецкая проза (Т.Манн, Ф.Кафка, Л.Фейхтвангер, С.Цвейг, Г.Манн, А.Цвейг, Э.М.Ремарк, Г.Бёлль…).
Представленная классификация, конечно же, крайне субъективна и в основном отражает мои собственные литературные пристрастия и предпочтения.
У моего отца была своя система. Для Ильяса Эфендиева выразителем ХХ века являлась, в первую очередь, американская проза: Фолкнер, Хемингуэй, Дос Пассос, Стейнбек, Колдуэлл, Селлинджер, Апдайк…
Первозданная чистота Джека Лондона
Думая о Джеке Лондоне, ловлю себя на впечатлении (здесь точнее сказать – предощущении): мне он представляется одним из героев античной трагедии, который немыслимым образом перешагнул через два тысячелетия и неожиданно даже для самого себя оказался в ХХ веке.
Прошли-пролетели века, лицемерие обрело ужасающие масштабы, атомные бомбы отбросили (забросили?!) мужественный героизм Александра Македонского, Ганнибала, Спартака куда-то далеко, в недостижимые, неуловимые сферы нравственности, партийные съезды своими «судьбоносными» решениями затмили смыслы античных сенатов, превратив их в нелепые и импотентные сборища и т.д. и т.п.
А он, Джек Лондон, словно бы ничего обо всем этом не зная-не ведая, явился в ХХ век и не выдержал.
«Золотой человек»
Для народов, которым по разным причинам не повезло с политической судьбой, подобное «невезение» сказывается также и на степени известности, славе и месте образцов их литературы в контексте мировой литературы.
Роман венгерского писателя Мора Йокаи «Золотой человек» я считаю значительным фактом мировой литературы и уверен, будь этот роман напечатан во Франции, имя автора с полным на то основанием с гордостью произносили бы в одной связке с Бальзаком, Флобером, Золя, Мопассаном, а его творчество стало бы предметом исследований и отдельной темой в учебнике по литературе.
«Золотой человек» стоит в одном ряду с «Отцом Сергием» Толстого и продолжает литературную традицию, требующую умения (силы!) психологического проникновения в глубины человеческого характера. Мор Йокаи раскрывает такие пласты натуры своего героя, – Михая Тимари, – которые доступны только обладателю того, что называется «дар свыше».
И что же? Сегодня роман «Золотой человек» вне Венгрии известен только специалистам по венгерской литературе.
Записываю впечатления от романа «Золотой человек», а в голове мелькают вопросы:
– А как же случилось, что Ибсен и Гамсун из маленькой Норвегии заняли столь высокое положение в мировой литературе?
А Лакснесс из маленькой Исландии?
И все же…
Скупой скупому рознь
В мировой литературе есть целая галерея образов скупых.
Классический пример – Гобсек Бальзака.
В азербайджанской литературе тоже есть подобная галерея: Гаджи Гара Ахундова, Гаджи Гамбар Везирова и Мешеди Губад Гаджибекова…
Всех их роднит одно качество характера – скупость, однако скупцы в азербайджанской литературе сильно отличаются от своих зарубежных собратьев.
Гобсек – раб золота. Золото и только золото целиком и полностью занимает его мысли и чувства и в этом смысле все его существо раба этим и ограничивается.
А вот Гаджи Гара, Гаджи Гамбар и, в особенности, Мешеди Губад далеки от рабской зависимости: они живые люди, не лишенные «героических», удалых порывов, а также тяги к любовным приключениям, перед которыми меркнет блеск золота. Конечно, в их нравственной системе деньги занимают главенствующее положение, черты скупости в их характерах доминируют (пятидесятилетний Мешеди Губад, потеряв голову от очарования юной девицы, швыряет деньги направо и налево, но двадцать копеек, обещанные грузчику-амбалу, он не отдает до последнего…), однако это нисколько не обедняет психологическую выразительность характеров людей, совершивших паломничество-хадж в Мекку и Мешхед.
Гобсек страшен в своей мелочной примитивности, его боишься.
Наши же Гаджи и Мешеди не страшны, они скорее смешны в своих притязаниях и вызывают тайное сочувствие. Лично я с большим удовольствием посидел бы с ними за одним столом, мне не было бы скучно с ними даже в долгом путешествии и, думаю, с ним я смог бы даже подружиться.
Во всяком случае, приятелями бы мы стали непременно.
Дато Туташкиа и Индже Мемет
После романа турецкого писателя Яшара Камала «Индже Мемет» первые главы романа Чабы Амираджиби «Дато Туташкиа» показались мне вторичными, однако очень скоро обнаружил принципиальную разницу между героями: по сравнению с Меметом, Дато – интеллектуал. К главному достоинству грузинского романа можно отнести органичное, естественное сочетание первобытной удали с глубоким интеллектуализмом, который не следует путать с философским мировидением.
Именно художественное отображение этого сочетания и заставило меня дочитать, причем, с неослабевающим интересом, этот крупный (по объему) роман.
Ортодоксальное отношение к литературе
Советское литературоведение, в основном, занимается конструированием надуманных, не выдерживающих логики, а потому смешных (если не сказать, жалких) моделей, в которые затем любой ценой вколачивают объект исследования.
Читаю Бальзака и хочу разобраться в кое-каких насущных для меня вопросах.
Вчера по старой привычке зашел в библиотеку им.Ахундова, в картотеке наткнулся на изданную в Москве (1955 г.) книжку А.Пузикова «Оноре Бальзак», взял и прочитал ее.
Вот что он пишет на странице 25: «Буржуазное общество разобщило людей, оборвало все нити, связывающие человека с человеком». Словно бы в нашем цветущем обществе развитого социализма люди только тем и занимаются, что укрепляют братскую общность и бережно ухаживают за нитями, связывающими советского человека с другим советским человеком.
А как обстояло дело с «нитями» в 1937-м году, или среди гладиаторов древнего Рима, или во времена открытия Колумбом Америки? «О времена, о нравы!..»
А.Пузиков начинает анализировать «Человеческую комедию» в заявленном контексте разоблачения реакционного буржуазного общества и довольно скоро становится ясно, что Бальзак для него лишь повод, а цель – само разоблачение «буржуазного общества».
В итоге перед нами не литературоведческое исследование, а пособие для изучающих «Основы коммунизма». Во всяком случае, такое впечатление производит опус Пузикова.
Со времени издания этой книжки прошло 14 лет,1 но ничего не изменилось: советское литературоведение продолжает настойчиво обучать «Основам коммунизма» и конца этому ликбезу не видно…
Сказка ХХ века
Как известно, фольклор не ограничивается исторической хронологией, но «Синяя птица» для меня является сказкой именно ХХ века.
И не только потому, что у этой сказки есть конкретный автор – Метерлинк, который написал ее в ХХ веке.
Главным образом потому, что это произведение, не содержащее ни намека на научно-технические атрибуты ХХ века, эта сказка про ангелов и духов и есть художественное самовыражение ХХ века.
Запоздалые открытия
Сегодня, читая и перечитывая Маркеса, Кортасара, Амаду, Астуриаса, мы открываем для себя литературу Латинской Америки; эти писатели вошли в нашу жизнь как-то сразу, вдруг, совершенно неожиданно, словно внезапный порыв ветра с океана.
Как оказалось, открытие наше запоздало.
Вчера ночью прочел роман аргентинского писателя Энрике Ларретана «Слава дона Рамиро» и целый день ходил под впечатлением этого произведения, написанного в начале ХХ века. По мере того, как первые впечатления стали обретать четкие очертания, передо мной открылся совершенно новый мир: это был мир прозы Латинской Америки, разительно отличающийся от известной мне русской, французской, английской, даже близкой им (кроме Бразилии) по языку испанской литературы.
В романе «Слава дона Рамиро», написанном в первом десятилетии ХХ века, я не только почувствовал, но и почти наглядно увидел «зачатки» последовавших затем романов Маркеса «Сто лет одиночества», Амаду «Донна Флор и два ее мужа», Орнетти «Короткий век», Астуриаса «Буря», Фуэстеса «Смерть Артемио Круса».
Наверняка, в Латинской Америке есть и другие произведения, равные роману «Слава дона Рамиро», просто я о них, увы, не знаю…
Психологическая женская проза
или
женская психология в прозе?
Многие исследователи, в их числе и Н.Сигал, считают, что романы, составляющие во французской литературе пласт, известный как «психологически «женский» роман», базируются на романе Мари Мадлен де Лафайет «Принцесса Клэвская».
Однако для меня несомненно, что в «Принцессе Клэвской» гораздо явственней проглядывает «облик» флоберовской «Мадам Бовари», нежели признаки прозы Франсуазы Саган, т.е. во многом ведущая во французской литературе содержательная линия «Мадам Бовари» берет свое начало именно из этого романа.
На первый взгляд, линия «Мадам Бовари» аналогична показательной для русской литературы линии «Анны Карениной», но это всего лишь внешнее сходство, при более детальном рассмотрении обнаруживается их сутевое различие.
Линия «Анны Карениной» более сурова, чувства, изображенные Толстым, в большей степени завуалированы, замкнуты, в то время как чувства, характерные для линии «Мадам Бовари», обнажены максимально, они более экспрессивны и демонстративны.
Новый перевод Бальзака на… французский язык
Роман Филиппа Эриа «Невоспитанные дети», безо всякого сомнения, вышел из-под пера талантливого писателя.
Тем не менее, читая этот роман, я не мог отделаться от навязчивого ощущения, будто читаю Бальзака, которого Эриа старательно переписал, изменив по понятной причине лишь имена, время и события.
Абсолютно разные углы зрения на мир
За последнее время мне удалось прочитать рассказы (точнее было бы назвать их «описания событий»), притчи, и другие опусы (без признаков жанра! во всяком случае, я не смог определить его!) китайских писателей Хань Ю и Лю Цзин-юана (они считаются выдающимися представителями классической китайской литературы), потом прочитал китайские народные сказки и, наконец, сегодня утром осилил двухтомный анонимный китайский роман XVI века под названием «Цветки сливы в золотой вазе или Цзин, Пин, Мей».
Читать все это, особенно сказки, было очень интересно, порой какие-то яркие детали, мимолетные штрихи поражали воображение, оставаясь при этом… абсолютно чуждыми для восприятия.
Не говоря уже о Востоке, но и при контакте с фольклором Запада – немецкими, английскими, французскими, славянскими сказками – я всегда обнаруживал какие-то элементы, мотивы, порой описания событий, перекликающиеся, а порой и полностью совпадающие с азербайджанским фольклорным материалом. Это происходило и при знакомстве с фольклором даже примитивных африканских народов (слово «примитивные» я употребляю в его этимологическом значении…), чего не могу сказать по поводу контактов с китайским фольклором и древней китайской литературой.
Поразительно, но даже при схожести событий и совпадении ситуаций их художественно-психологическая передача создавала ощущение, если так можно выразиться, «отчужденного подобия», которое выглядело скорее как имитация схожести, нежели естественное в таких случаях типологическое и парадигматическое родство; знакомые (точнее, вроде бы знакомые…) вещи настойчиво демонстрируют свою инаковость, словно нечто узнаваемое, которое выставлено за массивным и холодным (как лед) стеклом: видеть видишь, а вот взять в руки, рассмотреть со всех сторон, почувствовать их тепло не представляется возможным…
Думаю, причина этого – различие в художественном мышлении, мировидении (не путать с мировоззрением!), художественном качестве, художественных критериях и художественном же сравнении.
Есть и вторая причина, непосредственно вытекающая из первой: Б.Рифтин в предисловии к сборнику «Китайские народные сказки», изданному в 1972 году в Москве, особо подчеркивает, что «Феодальный Китай в течение веков был известен как чиновничья империя» (стр.17).
Вчитываясь в эти сказки, я тщетно пытался прочувствовать в них факты непосредственного самовыражения китайцев (чем и характерен любой фольклор вообще, и азербайджанский, в частности), но вместо ожидаемого познакомился (из-за стекла!) с самовыражением чиновничьего мира.
Верно, чиновники тоже люди, но все-таки не народ.
Все, что хотел сказать, Браннер высказал в одной книге
Есть такие писатели, достаточно прочитать всего лишь одно произведение которых, как они начинают притягивать тебя к себе, словно магнит, более того, возбуждают в тебе некое маниакальное чувство, под влиянием которого запойно читаешь все, написанное ими.
Помнится, дело было в девятом классе. К тому времени я перечитал о Наполеоне все, что было издано на русском языке, и вот в руки мне попадает коротенькая новелла Стефана Цвейга «Невозвратное мгновение»: на десяти-одиннадцати страницах с потрясающей психологической выразительностью описывается история о том, как генерал Груши не подоспел на помощь Наполеону 18 июня 1815 года в битве при Ватерлоо.
До того времени я не читал Стефана Цвейга, но после знакомства с этой новеллой Наполеон перестал существовать для меня, и я принялся читать Цвейга.
А припомнилось мне это вот почему: вчера прочел рассказы Ганса Кристиана Браннера (книжка издана в серии «Библиотека «Иностранной литературы»; к слову, в последнее время1 эта серия пополнилась отличными книгами), и они мне понравились настолько, что один из них – «Писатель и девушка» – я бы непременно включил в антологию рассказа ХХ века, если бы, конечно, мне это дело поручили…
У этого писателя есть известные романы, однако… Все, что хотел сказать мне Браннер, он словно бы в полной мере выразил в своих рассказах, и у меня не возникло желание приобрести и почитать его романы.
Искренность Фахреддина
На днях2 написал эссе, героем которого был Омар Фаиг Неманзаде3, и во время работы над материалом со мной произошел показательный казус. Выписывая имена азербайджанских просветителей, активно работавших в конце XIX – начале ХХ века, я автоматически чуть не вписал в их ряд имя Фахреддина.
Конечно, образ героя трагедии Наджаф Бека Везирова «Страсти по Фахреддину» по своим художественным достоинствам сильно уступает персонажам наших классических пьес, много замечаний можно высказать и по качеству самой драматургии, но при всем при том он предельно искренен; именно эта искренность удерживает его в нашей памяти и даже делает его чуть ли ни реальной исторической личностью, имеющей право быть вписанной в один ряд со славными просветителями.
Трилогия Яна
В свои юные годы В.Ян – а это были времена, когда он занимался журналистикой и путешествиями – верхом на коне объездил огромную территорию, простирающуюся от пустыни Каракорум до Ирана, включая Хиву и Бухару. Свои впечатления он отразил в интересных и познавательных путевых заметках, которые были по достоинству оценены читателями.
Потом он издал исторические романы (в детстве я читал его «Спартака» и «Финикийский корабль»), и только в самом конце своей долгой жизни он неожиданно поменял фактуру, написав романы «Чингисхан», «Батый» и «К последнему морю».
Для меня очевидно: эта трилогия обязана своим появлением на свет именно впечатлениям от путешествий по азиатским просторам в далекие юные годы.
Колорит всех трех романов насыщен такими красками, повествование изобилует такими точными, живыми деталями, которые невозможно сочинить, изучая историю по книгам – все это надо было увидеть, прочувствовать, потрогать, как говорится, своими руками и запечатлеть все в своей писательской памяти.
И один из персонажей трилогии – искатель смысла этого мира, поборник истины и справедливости Гаджи Рахман – есть ни кто иной, как выражение художественного «я» того самого юного путешественника.
Вне всякого сомнения, на мировоззренческую глубину поисков истины Гаджи Рахмана значительно повлияла сталинская эпоха, в которой Ян создавал свою талантливую трилогию: чувствуется, что автор опасается ненароком выйти за рамки советской идеологии, не решается, боится – время такое! – вступить на хорошо ему известные «территории».
Но слово свое он все-таки сказал.
Шоу переводит Чехова
Жанр своей пьесы «Дом, где разбиваются сердца» Шоу определил следующим образом: «фантазия в русском стиле на английские темы».
Дочитав «фантазию» до конца, поймал себя на мысли, что Шоу захотелось соединить чеховские «Дядю Ваню», «Чайку» и «Вишневый сад» и перевести эту компиляцию на английский язык. Захотел и сделал, получилась новая пьеса.
Допускаю, что мною движет не логика, а чувство, но ничего поделать не могу: за каждой сценой пьесы Шоу мне видится Чехов1.
Раньше для меня в Шоу отражался Ибсен, и тогда я не мог избавиться от этого чувства.
Сойдемся на том, что Шоу великий (даже гениальный!) импровизатор.
Итак, Шоу, если так можно выразиться, оригинальный импровизатор на тему…
И английский писатель, оказывается, тоже может быть темпераментным
Для меня самым темпераментным английским писателем XIX века является Джордж Эллиот.
Особенно в романе «Флосская мельница».
Такого «теплого» колорита английской провинции, как в этом романе, я не ощущал даже у Диккенса и Теккерея.
Может, потому, что Джордж Эллиот – женщина?
Вместе с Кямилем Яшеном и Августом Якобсоном
поездом едем в Баку
Вот и ночь наступила, а я на родном 5-ом поезде возвращаюсь из Москвы в Баку; как всегда, в купе я один, и впереди еще полторы суток дороги.
Коротая время, прочел пьесу Кямиля Яшена «Зори революции» (вчера взял ее со стола Азера2).
Оказалось, про Ленина…
До сих пор я не читал Кямиля Яшена (потому и захватил с собой машинописный текст пьесы, точно зная, что, кроме как в поезде, нигде больше не получится почитать Кямиля Яшена), хотя лично с ним был знаком, он – председатель Союза Писателей Узбекистана, и мы не раз встречались с ним на различных литературных мероприятиях в Баку, Ташкенте и, чаще, в Москве, и всякий раз он передавал приветы Имрану Касумову и Мирзе Ибрагимову; на всякого рода и уровня литературных собраниях он сидит, как правило, молча, рта не раскроет, молчит себе и молчит (по меткому определению Джафара Джафарова, – номенклатурный декор!), но в обращении прост, скромен, чувствуется, что по натуре он добрый человек.
Но вот эта, с позволения сказать, пьеса…
Да будет милостив к нему Аллах!..
Вообще-то ожидать чего-то от очередного образчика советской ленинианы наивно: штамповка настолько жесткая, что даже такой одаренный драматург, как Шатров, не в состоянии вырваться из-под ее пресса и создать что-нибудь вне шаблона и в чем не ощущалось бы родства с повестью М.Ибрагимова «Тетушка Пери и Ленин». В оправдание творцов ленинианы можно сказать лишь одно: в жестких рамках идеологических установок практически невозможно создать образ живого – какой он есть на самом деле! – человека, особенно если он к тому же – историческая личность.
…Под мерный перестук колес принимаюсь за чтение большого (по объему) романа Августа Якобсона «Ветер Октября».
Имя этого эстонского писателя у меня на слуху, но вот прочитать что-то из его произведений как-то до сих пор не довелось; случай подвернулся вчера в редакции журнала «Дружба народов»: увидел этот роман на столе у заведующей отделом Елены Мовчан и попросил почитать с возвратом, конечно.
Лена охотно отдала мне книгу.
Хорошие книги так не отдают.
Проверим…
«Номенклатурный декор»
Выдающийся критик и театровед Джафар Джафаров оставил глубокий след в истории азербайджанской культуры. У меня с ним связаны и личные воспоминания.
Первые месяцы 1971-го года. Дж.Джафаров – секретарь по идеологии ЦК КП Азербайджана. Меня, молодого в то время писателя, собираются назначить на должность главного редактора молодежного журнала «Улдуз» («Звезда») и, значит, встреча с ним и собеседование неизбежны. Он вызывает меня к себе, и мы долго беседуем, выходя за рамки официального визита. Звонит телефон. Терпеливо выслушав сообщение, Дж.Джафаров в своей манере деликатно спрашивает: «Какое отношение я имею к ним?», снова терпеливо слушает собеседника на другом конце провода, коротко бросает «Хорошо» и кладет трубку. Уловив в моем взгляде вполне понятный интерес, сокрушенно поясняет: «Торжественное собрание строителей, и я там должен быть…». И добавляет фразу, которая врезалась мне в память: «Доконает нас обязанность быть номенклатурным декором!»
Что же касается назначения, ЦК (в лице Дж.Джафарова) поддержал мою кандидатуру, Бюро ЦК комсомола Азербайджана во главе с тогдашним первым секретарем, энергичным и инциативным Рафиком Аскеровым, утвердило меня на должность главного редактора издаваемого совместно с Союзом писателей журнала «Улдуз», но поработать на этом посту мне так и не пришлось: против моего назначения категорически возразил тогдашний председатель Союза писателей Мирза Ибрагимов.
Сейчас все три участника памятного для меня события давно уже в мире ином, а я завершаю воспоминания о них традиционным пожеланием: да пребудет над ними неизбывная милость Аллаха!
Воспоминания прошлого учат современную Турцию
В этом году1 на русском языке была издана книга Гадри Гараосманоглы «Дипломат поневоле» и снова спасибо Неймат киши2 – благодаря ему я заполучил ее.
Гараосманоглы изветный турецкий прозаик ХХ века, но я, к сожалению, не читал ни одного его произведения на русском языке нет, а на турецком не достанешь так, что эти воспоминания для меня стали одновременно и образчиками его писательского мастерства.
Как и ожидалось, книга читается с интересом; к несомненным достоинствам повествования относится ее познавательность: очень много узнаешь об истории Турции, начиная с периода реформации до наших дней, книга знакомит читателя с современной Турцией, ты живо ощущаешь жизнь государства.
(Продолжение следует)
|
|