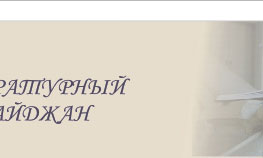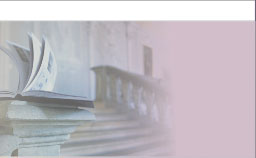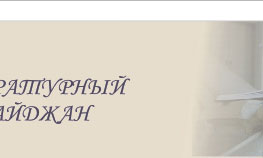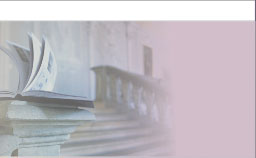|
АЙДЫН ТАГИЕВ
Не хлебом единым
Стояла осень, близилась зима. Вели с самого утра без дела слонялся по городу, то и дело поглядывая на небо. Пожалуй, впервые за всю свою сознательную жизнь он видел его таким низким и пасмурным. Словно по небу разлили жидкий свинец… Вели чудилось, будто эти свинцовые тучи опускаются все ниже, всей своей тяжестью придавливая его к земле. Еще немного, – думал он, – и этот свинец прольется на землю – и что тогда будет со всеми нами?
Но причина его подавленного настроения была в другом. И именно по этой причине он с утра пораньше ушел из дома. Все дело было в том, что в этом городе, где он теперь жил, он был беженцем - одним из множества вынужденных переселенцев из оккупированного армянами Карабаха, оставивших свои дома, полные кровью и потом заработанного добра, и приехавших искать защиты и помощи в столице. И теперь он всякий день отправлялся бродить по городу в надежде как-то добыть кусок хлеба, чтобы принести его в подвал, который он теперь называл домом и где его возвращения с нетерпением ожидали жена и дети…
Он вновь взглянул на небо, на покрывшие его сплошной пеленой темные тучи, наполненные тяжелой влагой. Тучам что - они выплачутся и им полегчает. А вот его маленькое, размером с кулак сердце, переполнившееся горячей влагой страдания, – как излить ему свою печаль, чтобы оно не разорвалось от боли?
Небо наконец разразилась ливнем, будто тяжелые тучи кто-то враз выжал, словно мокрое полотенце. Вели, не боясь промокнуть под дождем до нитки, стоял под тяжелыми холодными струями. Одежда его сразу наполнилась влагой, небесными слезами, и теперь уже Вели действительно нечего было бояться. Вот бы и мое сердце также освободилось от скопившихся в нем слез, – думал Вели, – сумело бы выплакаться. Но, как оказалось, это совсем не просто. Он мог бы облегчить душевную боль, поплакав над могилами своих близких, лежащих на кладбище в его родном селе. Но село это вместе с кладбищем и дорогими могилами сейчас в руках врага. А здесь, в городе, поделиться с кем-то своей болью, выплакаться кому-то в жилетку, чтобы стало легче, – невозможно: все, с кем он здесь водит знакомство, такие же беженцы, как и он сам, и каждому из них, наверное, как и ему, хотелось бы найти такую “жилетку”…
Так где же раздобыть хоть немного денег, чтобы накормить семью? – не переставал размышлять Вели. И вдруг на ум ему пришла, как ему показалось, спасительная мысль. Ну да, просто нужно сходить к его бывшему односельчанину Васифу.
Тот перебрался из их села в Баку задолко до трагических карабахских событий. Вели слышал, что дела у Васифа идут неплохо, он оказался шустрым малым, и теперь у него в городе свой благоустроенный дом, добротный гараж и в нем – дорогой автомобиль. Правда, сам Вели в доме у Васифа ни разу не был, а при встречах никогда ни о чем не просил. Но теперь вот решил обратиться к нему за помощью. Приняв это решение, Вели ощутил облегчение. Да-да, вечером он возмет с собой сына Гадира, и они вместе пойдут к Васифу. Конечно же, Васиф не отпустит их, не угостив, как это принято у нашего народа. Самому-то ему ничего не нужно, но вот Гадирчику хорошо бы наконец отведать вкусной еды, которой он уже так долго не видел - после того, как они стали семьей беженцев, им пришлось забыть о нормальной сытной пище. Вели было жаль своего самого младшего Гадирчика, единственного брата у семи сестер. Вот уж воистину пути Господни неисповедимы: давно ли они всем семейством упрашивали мальчика съесть еще ложку жирного бозбаша, не оставлять еду в тарелке, а теперь вон как все переменилось…
Сынишку назвали Гадиром в честь деда, отца Вели. Тот его не помнил, хотя и застал в живых; но отец умер, когда Вели было всего года полтора. В селе все вспоминали отца Вели как очень хорошего человека – мужественного, работящего, преданного своей семье. И теперь мечтой Вели было, чтобы сын его поскорее вырос и стал настоящим мужчиной, как и его дед, имя которого он носит. Тем более, что в “добеженские” времена все в родном селе, знавшие отца Вели, в один голос твердили ему, что Гадирчик похож на деда, как одлна капля воды бывает похожа на другую. Потому-то ему и хотелось, чтоб сынишка поскорее вырос. Еще тогда, когда мальчик был совсем крохой, Вели взял себе за правило чуть ли не каждый вечер, сразу после ужина, прислонив Гадирчика к стене, отмечать на ней его рост - ему хотелось, чтобы пометки эти поднимались вверх как можно быстрее. Домашние посмеивались над этой его привычкой, но он ей не изменял, тем более, что сынок радовал его - подрастал довольно исправно…
Вели тяжело вздохнул, подумав о том, что здесь, в городе, он забросил эту привычку - теперь она ему ни к чему, ведь чем сейчас питается его мальчик, чтобы расти…
Вот он и подумал, что, может, у Васифа сынишке удастся как следует поесть. Он совсем измучился, разыскивая дом Васифа. Да еще и голодный ребенок брел рядом - его эти поиски совсем лишили сил. Мимо проносились автобусы, такси, но в кармане у Вели не было даже мелочи. Так что он не мог себе позволить поездку в автобусе. Раздражали его и многочисленные лотки со снедью, выстроившиеся вдоль дороги. Он старался избегать взгляда сына – вдруг тот попросит что-то купить ему, и как тогда ему быть? Хоть бы скорее добраться до дома Васифа и там, наконец, накормить ребенка досыта. И тогда можно будет сегодня вновь измерить его рост – быть может, от хорошей еды мальчик хоть чуточку вырастет? – размечтался Вели.
Васифа они застали в большом просторном дворе, окружавшем его дом – тот копался в моторе своего автомобиля. Вели почувствовал, что их приход несколько смутил Васифа. Тем не менее, он ласково обнял Гадира, поинтересовался у Вели, как его дела. Но в дом не пригласил и занятия своего не оставил, правда, сказал, что работы ему осталось на пару минут, а потом они поднимутся наверх и там как следует посидят. Однако эта “пара минут” растянулась надолго. Васиф все копался и копался во внутренностях своей машины. Вели показалось, что он вроде бы и позабыл о приходе хотя и нежданных, но все же гостей. Правда, время от времени Васиф поднимал голову, отрываясь от автомобиля, и задавал Вели очередной ничего не значащий вопрос. Вели чувствовал себя очень неловко, не знал, как ему быть дальше. Он уже готов был плюнуть на все, уйти и навсегда забыть о Васифе, да и вообще обо всем на свете - не думать больше ни о чем, и будь что будет. Но рядом стоял его голодный сынишка, которого, он все же надеялся, здесь покормят, и тот ляжет спать сытым, и Вели продолжал покорно стоять посреди двора, ожидая, когда хозяин соизволит уделить им внимание. Ему очень хотелось попрощаться с Васифом, сказать что уже поздно, и больше никогда не переступать порог его дома, но аромат аппетитной еды, шедший из кухни, заставлял его гнать от себя эти мысли. Наконец Васиф захлопнул капот автомобиля. Самодовольно оглядевшись, он приказал выглянувшей в окно жене собирать на стол – c таким видом, будто был уверен, что так долго ожидавший односельчанин с сынишкой только этого и ждут. Вели двинулся к входной двери, потянув за собой Гадира. Но мальчик не пошел за ним. Вели вопросительно посмотрел на него.
– Отец, я иду домой, – твердо сказа Гадир.
– Что-о? – воскликнул Вели.
– Я иду домой, – повторил мальчик.
Он сказал это так, что Вели понял: целая армия не заставит сына изменить это его решение.
…Голодные отец и сын молча возвращались домой. Глядя на уверенно шагавшего рядом с ним Гадира, Вели подумал: вот его сын и вырос – он стал мужчиной.
Сто долларов
Вот уж действительно, чего только не бывает в жизни: когда-то эта женщина стеснительно краснела, подавая на стол своему свекру и молодым деверям, а сейчас обслуживает жадно пялящихся на нее посторонних разнузданных мужчин, какие так часто встречаются в придорожных закусочных!..
Пять лет они с ее будущим мужем встречались, прежде чем пожениться, но даже пяти лет не суждено им было прожить вместе после свадьбы. В один из черных дней в их село пришли вооруженные до зубов боевики и сожгли его дотла. И тогда она, ставшая в одночасье вдовой, оставив их обжитой теплый дом, спасаясь от армян, ушла, куда глаза глядят, и нашла приют в одном из поселков, выстроенных для беженцев. А в ее родном селе, где ее по утрам будил веселый птичий гомон, теперь, наверное, лишь совы страшно ухают по ночам…
Один из ее земляков устроил ее в эту вот придорожную закусочную. Сперва она мыла на кухне грязную посуду – работать в столовом зале подавальщицей, обслуживая чужих мужчин, она не соглашалась. Но устроивший ее на работу земляк не уставал ее уговаривать:
– Ай гыз, теперь такую работу найти очень трудно, чего ты боишься? Хозяин закусочной тоже из беженцев, он проследит за тобой.
Наконец она согласилась. Правда, хозяин ей не понравился: в глазах у него черти плясали, а на беженца, судя по его налитому жиром, лоснящемуся лицу, он похож вовсе не был. Хозяин же, оценивающе оглядев ее, остался доволен: молодая вдова была хороша собой и, по его мнению, благодаря своей внешности могла привлечь в его заведение новых клиентов. Хотя, поговорив с ней, он понял, что шашни с этой женщиной не заведешь. Ну что ж, – решил он про себя, – подождем, а там видно будет…
Расчет хозяина оказался верным: с появлением новой официантки посетителей в закусочной заметно прибавилось, многие норовили усесться только за те столы, которые она обслуживала. А вскоре у нее появился постоянный клиент. Он приходил почти каждый день и садился за один и тот же стол. Она не знала его имени, ей было известно лишь, что он такой же беженец, как и она. Когда-то он был учителем в родном селе. На заработанные деньги купил себе машину “Жигули”. Когда в их село вошли армяне, он усадил свою семью в автомобиль, попытался вывезти из захваченной деревни и тем самым спасти. Но судьба распорядилась иначе: “Жигули” наскочили на мину. Все находившиеся в машине погибли, и только он чудом остался жив. И коротал теперь свой век один-одинешенек. Работать учителем он больше уже не мог – сдали нервы. И он, взяв в аренду “Газель”, занялся перевозкой людей. Но женщина все равно звала его про себя учителем.
Он всегда приходил в полдень и садился за столик у большого окна, выходящего во двор, в котором росла плакучая ива. И в один из дней молодая вдова вдруг почувствовала, что она, кажется, неравнодушна к своему постоянному клиенту - будь это не так, не смотрела бы она в полуденный час на входную дверь заведения с таким нетерпением…
Ей казалось, что обед в их закусочной заменяет ему и ужин: он всегда брал очень много хлеба и, покрошив его в тарелку с едой, съедал чуть ли не целую буханку. Как-то, заметив ее удивленный взгляд, он проговорил смущенно:
– Как говорят, к обеду – добавь, от ужина – избавь…
Когда он пришел в их закусочную впервые, она сразу же подошла к нему и стала перечислять имевшиеся у них в меню блюда, и вдруг заметила, как бледнеет лицо этого человак в старой заношенной одежде. Она умолкла и, поняв свою неловкость, ощутила, как лицо ее заливается краской: за время работы в закусочной она научилась распознавать клиентов, весьма ограниченных в средствах.
Смущенный клиент еле слышно сказал:
– Принесите мне только первое и зелень…
Она по привычке спросила:
– Спирное принести?
– Нет, я не пью, – ответил он, – боюсь попасть в руки дорожной полиции, да и не люблю я это дело. – Он смущенно улыбнулся:
– А вот чаю бы выпил. У вас есть чай?
На следующий день в то же время он вновь сидел на том же месте, за тем же столиком. Она сразу же узнала его. Задумавшись на мгновенье, она тихо - чтобы не слышали сидящие за соседними столиками – сказала ему:
– Советую вам и сегодня заказать лишь первое, потому что второе блюдо осталось у нас со вчерашнего дня.
Ей показалось, что лицо учителя порозовело. От смущения он закашлялся.
– Ну что ж, – сказал он, – тогда, как и вчера, принесите борщ.
Когда он пришел и на третий день, ей захотелось, прежде чем подать ему обед, попробовать его на вкус – хорошо ли приготовлено блюдо, хотя раньше ей никогда не приходило в голову это делать.
В один из дней ее ставший постоянным клиент, обычно ходивший небрежно одетым и с покрытым щетиной лицом, появился в закусочной аккуратно одетым и чисто выбритым. И женщине, всегда одевавшейся очень скромно, тоже захотелось принарядиться. Правда, новой одежды у нее почти не было, а краситься она никогда не красилась, стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания мужчин, хотя хозяин и говорил ей частенько:
– Как ты одета? Если нет денег на покупку одежды – скажи, я дам. Ведь даже цыганки стараются приодеться и подкраситься, поскольку женщинам нередко приплачивают за их внешний вид.
Но справедливости ради следует сказать, что как бы неприглядно она ни была одета, ее столы никогда не пустовали, и поэтому хозяин перестал делать ей замечания по поводу ее внешнего вида…
В один из пасмурных осенних дней учитель не появился в закусочной на своем обычном месте. Ожидавшей его женщине подумалось с тревогой: “Почему его сегодня нет? Наверное, он голоден”… Она тут же мысленно оборвала себя: “О чем это я думаю? Даже если он голоден, мне то что до этого? Тревожусь, будто он мне родной!”
Но смятение не оставляло ее. Кусок не шел ей в горло, и домой она вернулась голодной. Женщина никак не могла уснуть, думала: “Он ведь водит машину. Не дай Бог, еще попадет в аварию. Нет-нет, этого не может быть. Если бы что-то случилось, у нас об этом было бы известно”.
Это было действительно так, потому что клиенуру придорожной закусочной, в которой она работала, составляли, в основном, водители.
“Я совсем запуталась, - проносились в ее голове мысли. – Если он и попал в аварию, что мне до этого? Конечно, было бы очень жаль, но ведь в авариях каждый день погибают десятки людей, что я могу с этим поделать? Но отчего все же я так беспокоюсь об этом человеке?”
Она судорожно вздохнула. От волнения ее знобило даже в теплой постели, по щекам невольно катились слезы, ее душили сдерживаемые рыдания. И она поняла, что вновь пробудилась к жизни, снова надеется на счастье…
“Все это – лишь пустые мечты, ничего из этого не выйдет, кому нужна подавальщица из забегаловки для проезжающих, каждый день обслуживающая стольких мужчин? – думала она. – Учитель всего лишь один из таких же, как все они, правда, с той разницей, что он не бросается похабными словечкамси и не ест меня глазами. Что ж, спасибо и на этом”.
На следующий день учитель в обычное для него время вновь появился на пороге их забегаловки. Женщина очень обрадовалась, даже хотела выйти ему навстречу, и лишь усилием воли заставила себя остановиться. Она была очень взволнована, ноги не слушались ее. Наконец, на слабых ногах она подошла к столу, за которым сидел учитель. Тот попытался улыбнуться ей, но улыбка застыла на его губах, когда он увидел ее такой потерянной и грустной. Некоторое время он растерянно молчал. Наконец, нарушил затянувшееся молчание:
– Я поставил машину на ремонт, вчера она сломалась в дороге, – как бы объясняя свое вчерашнее отсутсвие, сказал он.
Женщина равнодушно кивнула. Учитель взглянул на нее с удивлением – он привык, что они обычно дружески перебрасываюся несколькими фразами, и необычное поведение женщины показалось ему странным.
Он без аппетита пообедал. Салфетница была пуста и ему пришлось, достав из кармана носовй платок, вытереть им губы и руки. Лишь после этого она быстро подошла к его столику и, извинившись, положила на него салфетки.
– Ничего-ничего, – поспешил успокоить ее учитель. – Вы сегодня очень задумчивы. У вас ничего не случилось? Не скрывайте, скажите, может, я смогу вам чем-то помочь. Или вас кто-то обидел, скажите, кто, – при этих словах его глаза гневно сверкнули, будто он готов был сейчас же строго наказать ее обидчика.
Лицо женщины вспыхнуло, она почувствовала благодарность к этому человеку, готовому заступиться за нее.
Так и не дождавшись ответа, учитель встал из-за стола и, немного подумав, протянул ей обернутую газетой книгу.
– Интересный роман, – сказал он, – возьмите, прочтете дома, это вас отвлечет от грустных мыслей. Когда у меня плохое настроение, я всегда стараюсь что-то почитать, обычно это анекдоты Моллы Насреддина…
Женщине было совсем не до чтения, но чтобы не обидеть учителя, она взяла протянутую им книгу.
В послеобеденное время в закусочной было мало народу, в ее работе наступило некоторое затишье, и она, пристроившись в уголке, начала перелистывать книжные страницы. И вдруг вздрогнула как от внезапно полученного удара, увидев вложенную в книгу стодолларовую купюру. Ей показалось, что потолок над ней закачался, а пол поплыл из-под ног. Женщина была потрясена, из глаз ее градом катились слезы, на этот раз - слезы негодования. “Ну и дела, – думала она. – Вот тебе и честный учитель-горемыка. И я еще ждала его!”
Она постаралась взять себя в руки, насухо вытерла мокрые глаза.
“Впрочем, что же тут удивительного? – с горечью размышляла она. – Кто я для него? Он ведь меня совсем не знает. Просто какая-то женщина, работающая в забегаловке у дороги”…
Дрожащими руками она взяла купюру, которая жгла ее огнем, и положила деньги в книгу. С горькой усмешкой подумала: “Спасибо, что оценил меня в сто долларов, а не в несколько “ширванов”. Да еще сделал все культурно, не стал договариваться в открытую”…
Горькая обида не оставляла ее, не позволяла найти себе место. Внезапно, выглянув в окно, она увидела идущего по направлению к закусочной учителя. Женщина побледнела. В гневе она стала вспоминать грубые, жестокие слова, высказав которые она смогла бы выразить всю свою обиду. Ей хотелось швырнуть их ему в лицо, чтобы выплеснуть причиненную ей боль. Если бы у нее хватило сил, она бы его ударила.
Ей хотелось крикнуть ему:
– Какой же вы негодяй! Решили купить меня как какую-нибудь дешевку! Заплатили, а теперь идете, чтобы получить купленное? Но знайте, не все на свете можно поиметь за деньги! Вы меня плохо знаете! Я не из тех, за кого вы меня принимаете! Вам должно быть стыдно!
Увидев ее разгневанное лицо, учитель, видимо поняв ее состояние, бросился к ней, лепеча заплетающимся языком:
– Ради Бога, простите, как все нелепо вышло! Я взял эти сто долларов у своего знакомого, чтобы заплатить за ремонт “Газели” и совсем забыл о том, что вложил их в книгу…
Непослушными руками женщина с побелевшими губами протянула ему книгу. Растерянный учитель взял ее и ушел.
Женщина беззвучно плакала…
Перевод Елизаветы КАСУМОВОЙ
МАРАТ ШАФИЕВ
Выбор
Удивительно тихие высокогорные леса, не донимает мошкара, редкая бабочка трепещет в горячем потоке воздуха над солнечной поляной. Мы даже не спускаемся обедать, кругом дикие яблони, орех, виноград, цепкие заросли ежевики, из-под скал пробиваются холодные чистейшие родники. Потом я приезжаю зимой. В лес, утопающий по макушку в снежных завалах, нечего и соваться. Со скал гигантскими сосульками причудливой формы свисает замерзшая вода. Наши прогулки ограничены пределами маленького садика: цветущие вопреки законам природы розы, как капельки крови на жертвеннике Любви. В доме праздничная суматоха – родители Арзу дали согласие на свадьбу; уединившись в комнате, мы лежим на ворсистом толстом ковре. Печь не греет, но нам всё равно жарко. Летом мы нацеловались вдосталь – до припухших губ, мне хочется большего. Арзу только в прошлом году окончила школу, но деревенские девочки взрослеют рано. – Все, что хочешь, кроме... – она сжимает коленями мои настойчиво-дерзкие руки и напряженно вслушивается в шорохи дома: – Неужели наступит время, когда не будем испытывать друг к другу страсти? Что тут непонятного? Конечно, супружеское уважение, но любовь отпылает, как короткое лето. – Немыслимо, – говорю я. – Во мне будь уверена, не устану восхищаться тобой. Разве я дал повод сомнениям? Значит, неуверенность в себе. Не молчи, ты сама затеяла этот разговор. Я требую доказательства твоей любви. – Ты же сам потом будешь упрекать, что до свадьбы. Что за спешка? впереди – жизнь. – Клянусь, если упрекну, отрежу поганый язык. Чего стесняться? Мы без пяти минут муж и жена... Наконец, это происходит.
В полночь семья в сборе, моя новая семья: пирующие тесть и теща, сестрицы, тётушки, свояки и свойственники – кто их там разберет! Я звоню в город, телефонная трубка ходит по кругу. – Мамочка, и я поздравляю с Новым годом, – и слышу в ответ: – Приходили из военкомата. – Не пущу! – плачет Арзу, вцепившись в ворот моей рубахи. – Все будет хорошо, да кто заберет единственного сыночка матери-пенсионерки… Мать родила меня в тридцать девять – раньше у нее не хватало времени: постоянные разъезды с концертами. Оказывается, все происходит в свое время, поздний ребенок – в этом шанс на спасение; сердце мое томится предощущением тайного, как и за всякой метафорой открывается неслучайное сцепление множества различных обстоятельств.
Во дворе военкомата не протолкнуться – всех впускают, но никого не выпускают. Низкорослый (встопорщенное хаки, вывалившийся живот не убрать перетянутыми ремнями) выговаривает изможденным крестьянам (крупная и грубая скульптура лиц – прямоугольник подбородка и треугольник носа; жилистые заскорузлые руки, соскучившиеся не по оружию, а по ласкам черной жирной земли): - Не сегодня-завтра наши освободят Лачин. Земляки, вы же знаете меня, собирайте семьи и возвращайтесь к родным очагам, – он находит в толпе худосочного парнишку: – Я семерых твоих сверстников, своих учеников – светлая им память! – похоронил вот этими руками. Где ты околачиваешься, где твое место? Отстояв длинную очередь, вхожу в кабинет; за столом сидят военные и гражданские, врачиха в белом халате. Подполковник листает мое личное дело: – Военная специальность – механик-водитель. Танкисты, ох, как нужны. Я мямлю про предстоящую свадьбу, про старушку-мать. Военком перебрасывает папку гражданскому, похожего на филина глазами – круглыми, с черными кругами: – Что скажешь, Народный Фронт? – Что балаболить, всё ясно. Я не я, и хата не моя. Пусть гуляет, попробуем без этого фрукта войну выиграть.
Весной справляется свадьба, невеста – цветущая белая вишня. Еле взбирается на высокое брачное ложе с чистым надушенным бельем, взбитыми подушками. Под утро я прокалываю ножичком свой палец и кроплю смятые простыни – надо соответствовать старинным обычаям. Праздник омрачает трагическое известие о гибели маминой племянницы с двумя младенцами. Она часто приходит во сне – убитая Хадийя; в детстве, когда ее привозили к нам, или когда мама оставляла меня в Агдере, мы были большими друзьями: придумывали незамысловатые игры и ревели при расставании. Во сне представляется, что я вытаскиваю её из того ада. Но что я могу сделать в мире реальном? Я даже не был на войне.
...Отстояв очередь, вхожу в кабинет. Народнофронтовец поднимает на меня черные обугленные глаза: – У всех уважительные причины. И у всех матерей каждый ребенок – единственный. – Но разве я молю о снисхождении? – говорю я. – И причем здесь заслуженная артистка? – Призвание хорошо, а звание лучше, – это он так пытается шутить и вдруг задушевно поет: – Севгилим, севгилим – так у нас в Баку любимую зовут. Севгилим, севгилим – так у нас в Баку влюбленные поют! – Это не мамина песня, но Евгения Дэвис – ее лучшая подруга, вместе выступали и в Москве, и в Мурманске, и на Нефтекамушках. И такая просьба, наша малая родина – Агдере, прошу туда и направить.
В апреле 1994 года «хачики» переходят в наступление. Проезжаем опустевший городок, «Разрешите, командир», – я покидаю колонну, съезжая на знакомую улочку. – Дура! – кричу на Хадийю. т Какого мужа дожидаешься? Смерти своей дождешься. Живо в машину! Больше тридцати три суток непрерывных боевых действий – «хачикам» так и не удалось прорвать нашу оборону в северо-восточном направлении и отсечь Гянджу от республики. Наступило длительное затишье, можно возвращаться домой. Во сне ко мне часто прибегает, смешно семеня кривоватыми ножками и смешно коверкая слова, мой нерожденный ребенок. Хадийя детей больше не хочет. Может, она права – поднять бы на ноги двоих ее малышей. То есть наших. Они зовут меня «папа». Арзу выдали замуж за хромоногого вдовца. Сумеет ли она когда-нибудь меня простить?
– Дура! – кричу я. – Живо в машину. В конце улицы выползает бронированное чудовище, щелкающее смертоносными зубами. – Я прикрою! – у меня нет времени залечь в укрытие. Я луплю, луплю из дымящегося автомата, пока встречная крупнокалиберная пулеметная очередь не перерезает меня пополам. Возраст Христа – говорят о людях, ушедших из жизни до обидного рано. Но мое поколение не дотягивает даже до этого возраста, не успев ничего сделать, не долюбив. Но разве бывает ненужное поколение? Вчера я сумел дозвониться до мамы и услышать сквозь треск: – У тебя будет сын.
Плесень
Запереть вход пятиэтажного Торгового дома изнутри, девятичасовое ночное бдение, отпереть первым продавцам – не работа, а синекура. Отсыпался здесь же, раньше на складе у милой дамы постбальзаковского возраста. Эмилия приносила в стеклянной баночке бульон («Всё время питаться всухомятку – испортить желудок»), брала на стирку бельё («Это невозможно». «Почему? Я же не вручную, загрузила в автомат – и вся недолга»). В его размеренной, однотонной жизни случилось настоящее приключение. После долгих задушевных бесед Эмилия попросила повесить в доме новую люстру. Она не отстранялась от объятия, но так сильно мотала головой, что расцарапала серьгой его щёку. Возможно, женская игра или застыдилась, но пропало всякое желание, и он отступил в полшага от рая. По каким таким неписаным законам мужчина должен добиваться, преследовать по следу и запаху, разве женщине не хочется того же самого? По нынешним временам свободный зрелый мужчина – такая же необыкновенная редкость, как «арлекин» – прелестная, невозможная бабочка Набокова. «Горячее» прекратилось, пришлось перебираться в новое логово.
Намечались посиделки. Куличи, крашеные яйца, Денис: «Пасха!»; ребята не остались в долгу, на сымпровизированный стол – большая картонная коробка – выставили водку, гриль, соления. Афган, обсосав масляные пальцы, прижимал своего компаньона к груди: «Ису мы уважаем! Разлей, что там осталось. Иса и наш пророк. Иса пить не запрещал, воду превратил в вино!» Ребята умилялись подобному единению, радостно кивали головами: «Правда, всё правда. Воистину воскресе! Христос терпел и нам велел». «Вот здесь, брат, ты глубоко ошибаешься, Иса – не Бог, Иса – человек. Как ты мог, неверный, человека равнять с Аллахом». «Дурак ты, Афган, хоть и мусульманин, с дураком чего разговаривать», – Денис тяжело поднялся, сжав кулаки. Пришлось разводить их в разные стороны. Одно слово становится непреодолимым препятствием, а мы ежедневно сеем в мир сотни слов – сотни семян раздора. Наконец, все удалились; он прибрался, затем – дежурный обход здания. Спиртное его возбуждало, из строя манекенов выбрал белокурую Оксану. Скользкая холодная кожа под лёгким платьем, она высоко задрала красивые тонкие ноги, безропотно исполняла любые его прихоти, пока не произошёл опустошающий взрыв в чреслах.
Днём бесцельно кружил по городу на автобусе – плавная смена живых картинок дарила иллюзию приобщения к без устали кипящей жизни. Автобус тряхануло, он вцепился в плечо молоденькой девушки. «Дяденька, не могли бы вы держаться за что-нибудь другое?» «Не искушай, красавица». Впрочем, не до смеха. Возбуждённые люди перекрыли дорогу, выдёргивали из машин мужчин и гнали пинками в сторону площади. Смяли редкую цепочку оцепления (мелькнули под ногами растоптанные огромные глаза мальчишки), прыгали в восторге и скандировали: «Победа! Отставка!» Подходили водомёты, спецвойска в бронежилетах, с прозрачными щитами. Он тоже с азартом выворачивал и кидался булыжником; получив беспощадный удар резиновой дубинкой, от которого, казалось, треснул череп, в гуще толпы быстро заработал руками, как пловец; мокрый и злой побежал по улице, круша витрины модных бутиков, и вдруг застыл под ошарашенными взглядами прохожих, выронил из разжавшихся рук арматуру: «Что же это было?»
Через неделю вызвали в кабинет начальника. «Приходил следователь, тебя опознали по оперативной съёмке, ты у нас уже не работаешь, какое я имею право держать человека без трудовой книжки и прописки? Зачем мне неприятности. Извини, действительно, может, тебе исчезнуть? До лучших времён». «Да я и так живу на дне, на птичьих правах». Всякий человек – всегда потерянный в этой жизни, которую не понимает, не сознавая ни начала, ни конца.
Сунулся на стройку, месил бетон, но сломался в первый же день, от непривычки к тяжёлому физическому труду ломило тело, дрожали колени. Прочитал объявление в газете: сторож на дачу. Летом хорошо: хозяева и их гости с обвисшими животами, грудями, почти голышом, пир горой, счастливые детские вопли, блестящее море, перекопка земли, сбор садового урожая. Хуже зимой: опустевший посёлок, громкие монологи, разбойничьи с посвистом налёты ветра, песок в глаза, песок скрипел на зубах, ненавистный песок проникал сквозь щели, носил плотные, резиновые очки – водного ныряльщика. Денег ему не платили, часто забывали завезти продукты, и тогда питался хлебом и чаем, можно было занять в магазине, но хозяин ругался на непредвиденные расходы. Единственный выход в мир – телевизор. Тот мир намного масштабнее, трагичнее: дыбилась и тряслась земля, если в разверзшиеся бездны не проваливались города, их затопляли циклоны, кочевали голодные народы, происходили войны, финансовые кризисы – в большом произволе растворялся меньший. Человек скорее зритель, нежели герой или жертва на сцене, не привиделось ли ему: семья, дом? Жена сделала аборт, он ударил её, кричал: «Деньги, деньги, одно на уме. Зачем тебе столько денег?» «А ты мне их давал когда-нибудь? Ты знаешь, сколько стоит ребёнок?» Когда вернулся через месяц, его встретили чужие люди. Потянулась череда процессов, один суд отменял решения другого, квартира перепродавалась ещё несколько раз, дело окончательно запуталось, затянулось мёртвым узлом. Где абсолютная истина, когда все кругом правы? Слаб человек, бессилен. Но и лукав, вопиет о невыносимой тяжести бытия, а сам готов барахтаться в дерьме, существовать подзаборным сорняком – но жить, жить, любой ценой вгрызаться в камни корнями и не замечать лёгкого выхода – всегда открытой двери Смерти. Жизнь выражает только саму себя, всякая моральная полезность есть ересь, от всех тысячелетий – тонкий культурный слой земли, от всех «измов» – только сырая всеядная плесень. Жизнь, как случайное переплетение сюжетов, – мелькнёт на поверхности моря рыбка и исчезнет, словно ничего и не было. А если не было, что исчезает?
Праздник поцелуя
Остановилась как раз под своим постером: «Кого-то ищете?» «Вот пьесы, кому показать? Да и станут ли читать?» «Это к режиссёру. Я покажу». Кабинет заперт, мыкаемся по всему театру. «Григорий Эмильевич, познакомьтесь, молодой автор». «Ты же знаешь, Светочка, я не принимаю рукописи самотёка». «Пьесы замечательные, потом локти будете кусать». «Хорошо, хорошо, покажите». «Мавр сделал своё дело». «Ступай с богом, Светочка, не волнуйся, я его не съем. Знают, сердце у меня мягкое, вот и пользуются».
Снова столкнулись на выходе. «Что решили высокие договаривающиеся стороны?» «Приходите через месяц, ничего конкретного». «Учитесь видеть знаки. Встреча со мной – к удаче». «Да, ещё просили поцеловать вас». «Целуйте, я не против», – замедлив шаг, подставляет румяную щёчку. «Прямо на улице? Люди, все вас знают. Как-нибудь в другой раз». «Как угодно». «А куда мы идём?» «Уже пришли. Дом на Набережной, мой дом, очень удобно – под боком театра».
В зимнюю премьеру включили и мою сценку. Из всего корпуса представленного материала – малюсенькая сценка, обидно. Всё равно сидел в зале, аплодировал. Только что актёры страдали, со слезами на глазах заламывали руки; но вот приглашённые хлынули на фуршет, и весь катарсис улетучился с первыми брызгами шампанского. Светлана, сильно накрашенная, махнула мне рукой с другого конца стола; Григорий Эмильевич принимал поздравления и, перекрывая шум, провозглашал велеречивые тосты. Соня, гримёрша, жарко дыша в лицо вином и духами, кивнула глазами на радостно порхающих кругом соблазнительных гурий: «Беги со всех ног, не обманись золотой мишурой. Современные Джульетты и Офелии мучительно решают две проблемы: где поесть и с кем трахнуться. Светлана Мухтаровна – наша Светочка – единственный луч тёмного царства, тридцатник – какие наши годы!, а уже прима. Маяковского и Пастернака наизусть читает!»
«Проводишь? Сегодня я такая пьяная и легкомысленная, что меня опасно одну пускать на ночную улицу». Светлана, повиснув на моей руке, заливисто хохочет; редкие прохожие шарахаются в стороны. Мне приятна её близость, веду её кружным путём. «Светлана Мухтаровна…» «Но, но! Какая ещё Мухтаровна! Для всех я – просто Светочка. И почему «вы»?» «Извини, Светочка. Что для вас, то есть тебя, в актёрской профессии самое главное?» «Зубы, – веселится она. – А ты ожидал, я скажу: талант лицедейства или сердце? Нет, я женщина экстравагантная, точнее – экстравакантная. Для актёра главное – дикция, поставленный голос и ещё прямая спинка. – Ноги её заплетаются. – Ну это я сейчас продемонстрировать не способна. А зубы – вот они, все на месте, все настоящие. Не то что у тебя, на сколько лет ты младше? Наконец вскарабкались на её этаж. «А ведь за тобой, Светочка, должок». «Какой такой должок? Все свои долги выплачиваю аккуратно. Поцелуй? Не помню, но я тебе верю, если говоришь, значит, так и есть. Совсем как у Пушкина, помнишь Сильвио? Отложенный выстрел. Но жизнь показывает, преследуемые в будущем лучшие времена вдруг оказываются в недосягаемом прошлом». Она обнимает меня за шею и, закрыв глаза, отвечает поцелуем – всё горячей, ошеломительней. То, что она делала губами, языком, было необыкновенно. Так долго, что мы успеваем протрезветь. «Хватит, я же сказала: довольно, баста!» «За что спасибо? Это тебе спасибо. Прежде чем уйти, последняя просьба – давай учредим праздник поцелуя. Клянись. – Я достаю записную книжку. – Память – штука ненадёжная. Пиши. Что-нибудь, соответствующее. Дата и подпись. Попалась, рыбка, теперь не вырвешься. Итак, через год…» «Эх ты, шляпа, следующее 29 февраля только через четыре года», – её неповторимый смех прищемлён захлопнувшейся дверью.
Роман с театром не завязался. Работал в газете, Светлана Мухтаровна вышла замуж, получила заслуженного, я сделал большое интервью. 29 февраля 2004 года засыпанный снегом, с букетиком нарциссов за пазухой пальто, постучался в дверь. «Ты? Проходи. Конечно, удивлена, давно не виделись. Какие миленькие цветочки, замёрзли бедненькие. По какому поводу? Праздник поцелуя? Не знаю такого праздника. Раз в четыре года?» «Как ты могла забыть? Как можно такое забыть?!»
«Подожди, я приму душ», – говорит она. В душевой всё и случается. Потом мы в одних халатах на кухне курим сигареты. «У меня три слабости: кофе до и сигарета после», – пытается она шутить. – Где эта чёртова бумага?» – и рвёт мою записную книжку в клочья. «Это ничего не значит. Когда мы встретимся?» «Боюсь, что уже 30 февраля. Муж получил назначение во Францию, послезавтра улетаю».
Я знаю, что такое рай. Рай – это 30 февраля, когда во всём твоём теле болит удивительная женщина. И льющаяся вода очищает вас, и нет никакого греха. Бог для мужчины является в образе женщины, женщина представляет Бога мужчиной. На самом деле, Бог есть Оно, без противопоставлений и противоположностей.
Почему я вспомнил эту глупую историю? Сегодня очередное 29 февраля. Я звоню по телефону. Автоответчик, её низким и грудным голосом: оставьте, пожалуйста, сообщение. Я даю отбой. Снова набираю номер. Автоответчик. Даю отбой. Звоню.
Где ты, Светочка?
|
|