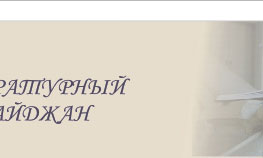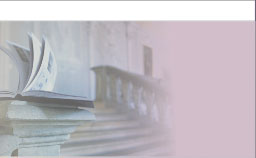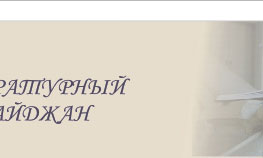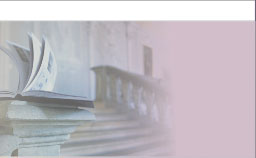|
Даже при посторонних жена ласково воркует с ним: «джаны-ы-ым», порой это сюсюканье претит, коробит его, не хотел бы он выставлять эти нежности напоказ. Конечно, она в нем души не чает, и все должны знать об этом, и она будет твердить вновь и вновь, сотню, тысячу раз, что он для жены – «джаным».
А жена для него «джаным» или нет, – вопрос. Мамед для нее – да, и слышит это каждый день, всякий раз – уходя на службу, возвращаясь домой, отправляясь за хлебом, попросив подать чай…
Сторонний человек подумает, надо же, это ведь не просто ласковое словечко, а жар души, это трепет сердца, которое распирает от наплыва любви и нежности…
Небольшого росточка, сравнительно молодая жена, ужасная мерзлячка, – в холодную погоду съежится, укутается одеялом, сожмется в комок. А когда Мамед собирается на работу, – бежит в прихожую, подает пальто и пуговки застегнет, юркнув ему под мышку, потом вынырнет, обовьет руками шею, на прощанье.
Мамед Джамалбеков хотя и любит свою половину, но по выходным дням не может усидеть дома, если не наведается на работу, чувствует себя не в своей тарелке, становится раздражительным и ворчит по пустячному поводу. А когда и в холодные дни случается такое, жена обиженно бежит к постели, утыкается лицом в подушку или же, причитая, постанывая, лукаво набивается на жалость, чтоб он, скинув пальто, вернулся к ней, и она, возликовав в постели, прильнула к нему, осыпая поцелуями…
Но и в такие дни уловки не удавались, и Мамед Джамалбеков уходил на работу, оставив жену в слезах.
Где те времена, когда он, как на крыльях, летел на свидания с суженой, перемахивая через заборы, звонил ей по телефону-автомату у станции метро, висел на трубке, соловьем заливался, лишая любимую сна и витая в облаках.
Заклинал знакомых, уезжавших в горные села, привезти пучок горного нарцисса. Она только раз заикнулась просто так, что предпочла бы гвоздике простые цветы. Или, скажем, горный нарцисс. Вот он и старался. Столковался с парнями, которые по утрам торговали полевыми цветами, привезенными из сельского приволья. Как только получили квартиру, уставил подоконники горшками цветочными, устроил целый вернисаж, но прошло время, цветы увяли, зачахли, остались без призора. И жена не ухаживала за этой красотой, не охоча была садовничать, ее больше занимали «ящичные» цыплята, – две пары этой живности сельской приютила в теплом закутке, в кабине, где стояли компьютер Мамеда и аквариум. Жена мечтала раздобыть для этой домашней птицы прозрачные, как аквариум, ящики, но это оказалось делом затруднительным. Да и Мамед не горел желанием искать.
В прошлом году на 8 Марта он где-то нашел и принес горную фиалку; жена нарадоваться не могла, порхала вокруг Мамеда, то хохотала без умолку, то, притихнув, возилась на кухне, предаваясь воспоминаниям, и грустнела. Каждый раз, получив какой-нибудь сюрприз, вспоминала горный нарцисс… «Где теперь сыщешь горный нарцисс?.. – думал Мамед. – Те, которые в лавках продают, – парниковые, ни запаха, ни прелести». А жене дай хоть веточку дикой алычи, лишь бы с живой природы, поставит в воду, будет ухаживать, а увянет – прослезится тайком. Но на цветы в горшках и краешком глаза не взглянет.
Потому Мамед старался избегать этих домашних опостылевших церемоний и разбирательств, замкнувшись в своей идеальной любви и недосягаемых мирах; иногда ему казалось, что и жена – одинокий инкубаторский цыпленок, пробавляющийся в воображаемом стеклянном ящике…
Как и в прошлом году, седьмого марта, накануне праздника, он вышел из дому под предлогом поисков горного нарцисса, а сам подался на место работы, там и застрял: оказалось, телефоны отключили. В АТС у него был добрый знакомый, в случае неполадок со связью или отключения из-за задолженности сослуживцы уповали на него. Мамед и рад, пусть знают, что и он не лыком шит.
Ночью выпал мокрый снег. К утру унялся, но налетел и разгулялся хазри .
Перед уходом жена удерживала, заклинала остаться дома: мол, такой ветер, не до горных нарциссов.
Но он не послушался, хотя и предлог его оказался неубедительным, в душе он пожалел жену и для очистки совести решил-таки придумать сюрприз к завтрашнему празднику; закрыл дверь за собой с этими мыслями. По сути ему поднадоело насиловать свои желания; не забыть бы чей-то день рождения, не упустить из виду кого-то поздравить с праздником, сказать жене приятные «сладкие» слова по торжественному случаю и прочие подобные вещи, превратившиеся в неизбежную обязанность. Он хотел бы покупать цветы, дарить их по велению души, говорить приятные слова не ради дежурного говорения, – тихо, без пафоса, пусть жена прослезится от счастья, а он выйдет на балкон, светлея лицом, вслушиваясь в мелодию, проснувшуюся в сердце, и отзовется ей, подпевая…
* * *
В тот ветреный день на АТС знакомого не оказалось, дежурила молодая девушка, и он купил по случаю завтрашнего Восьмого марта белые гвоздики; у нас до Черного января многие люди на белые гвоздики смотрели как на символ разлуки. В январские дни девяностого года улицы, площади, кладбища заполонили алые гвоздики. Цветоводы позднее стали больше выращивать белые; и Мамед на сей раз купил белые гвоздики, чтобы в праздник не вызывали скорбные воспоминания.
У входа в здание АТС он увидел старого человека, уговаривавшего хмурого сторожа, мешая русские и азербайджанские слова:
– Сана гурбан олум, завтра ее будут поздравлять… Она больная, понимаешь? Хастадир. . Мне обязательно нужен телефон. Откройте наш номер. Даю слово, оплатим за неделю… Хотя бы на один день откройте… Потом отключите…
Конечно, не сторож решал эти вопросы; судя по виду, он был человек новый на АТС и особой вежливостью не отличался. Взъелся на старика, хотел было даже отпихнуть, но, взглянув на просителя, отвернулся и ругнулся. Перевел взгляд на Мамеда, ища у него поддержки, но Мамед смерил его укоризненным взглядом, и сторож, подправив штаны, загородил дверь.
* * *
Старик со слезами на глазах повернул обратно.
Мамед, устремившись за ним, хотел было запихнуть ему в карман деньги. Старик, не глядя на него, удержал его за руку, потащил за собой несколько шагов, остановился.
– Зачем мне ваши деньги, – с горечью выдохнул он. – Чем подавать милостыню, лучше позаботьтесь о любимой женщине…
Старик смахнул слезинки, скатившиеся из голубых глаз.
– …Падите на колени перед ней… Поцелуйте руку… Скажите доброе слово… Утешьте, приголубьте взглядом… Только она поймет, вы лжете или искренни в чувствах своих…
Шли по бывшей трамвайной дороге, чтобы добраться до ближайшей станции метро. Морозный воздух обдавал лицо, больно саднило ноздри. Старик осекся, достал из кармана выглаженный платок, утер лицо.
Он был в стареньком, потертом пальто, в скособоченных туфлях. Брюки на манжетах подшиты изнутри, но были заметны стежки, на шее шарф со взъерошенным ворсом, из-под него выглядывала сатиновая сорочка без галстука.
Одет непритязательно, неказисто, но опрятно. Мамеду почему-то казалось, что от него должно было нести перегаром, вином ли, пивом ли. Но ничего подобного. И вроде стужа ему нипочем. Окинув испытующим взглядом Мамеда, он прошел вперед и зашагал вразвалку.
– телефон не работал… – продолжал он прерванный разговор. – Мне пришлось соврать Маргарите Евгеньевне… то есть моей половине… Я никогда не лгал ей, верите? Поднял трубку – вижу, отключили. Я побежал на АТС, чтоб попросить открыть линию… Предупредить подруг, чтоб вечером не нагрянули с шумом-гамом… Знаете, ей покой нужен… Да еще вот, хотел нарциссы купить ей…
– Нарциссы?
– Да… Вот такие ваши гвоздики вряд ли развеселили бы ее…
Старик покосился на белые гвоздики. Наклонившись, легонько погладил лепестки. Вскинул глаза из-под ощетинившейся меховой шапки.
– Позвольте представиться: Василий Данилович. А как вас звать-величать?
Мамед назвал себя.
Он был заинтригован неожиданным откровением и поведением старика.
– А может, Маргарите Евгеньевне понравится? – осторожно сказал он. – В такую холодину вряд ли нарциссы станут привозить в город.
– …Благодарю за великодушие…
– Так что берите.
– …Я скажу ей, мол, один добрый господин прислал… Впрочем, милости прошу к нам, сами ей и вручите. Она будет рада…
– Мамед ошеломленно уставился на этого старого рыцаря, явившегося в этот морозный ветреный день на безлюдной улице будто из тех времен, когда по городу катили фаэтоны.
– Маргариту Евгеньевну вернули с того света. Но, увы… Я молил Бога: не приведи, Господи, мне пережить ее… Господь не хочет внять… Видно, грех был на моей душе… Она на шесть лет меня моложе… Ее ровесницы все еще не забывают охорашиваться… Я о них только что упоминал… Старые девы! Если телефон не восстановят, нагрянут как пить дать, начнут утешать, мол, не тужи, все образуется… Впрочем, если это придаст ей сил, ладно, пусть приходят… Маргарита не должна умереть… Не имеет права…
Старик говорил так доверительно, будто знал Мамеда с давних пор, пуд соли съел с ним, некоторое время шли молча; было слышно, как воет налетавший хазри, скрипят поношенные туфли старика.
* * *
Дошли до метро.
Мамед, основательно продрогший, ускорил шаги к вестибюлю станции, откуда веяло прогретым воздухом; собирался распрощаться с Василием Даниловичем и, оставив поиски горного нарцисса, помчаться домой, и там, отогревшись под тепленьким боком своей благоверной, поведать ей о необычайной и трогательной встрече под сочувственные вздохи сердобольной спутницы жизни. Конечно, она прослезится, понятно, заплачет и в порыве нахлынувших чувств вновь назовет его «джаным!» Вновь вспомнит, сколько перетерпели, сколько лиха хлебнули, строя свое гнездо, вспомнит пальто с драной подкладкой, которое сшили из солдатского шинельного сукна, и будет молиться Аллаху за день насущный… а после, как цыплята в ящике, прильнет к какому-то уютному рельефу мужниного тела…
Мамед окунулся в тепло станции метро, старик медленно тащился за ним, похоже, он держал путь в другую сторону. У входа Мамед все же решил приличия ради обернуться и попрощаться; старик опередил его:
– Очень рад был знакомству с вами! Давненько в этом городе не видел, чтобы кто-то кому-то посочувствовал… Ностальгия, сударь мой, старческая болезнь…
Он произнес «ностальгия» с такой торжественностью, что Мамеду показалось: перед ним человек из другого столетия или из неведомой и далекой страны.
– Который час? – спросил он, показав глазами на наручные часы Мамеда.
Мамед пожал плечами:
– Батарейка села. Ношу, чтобы не забыть сменить…
– Терпеть не могу эти японские штучки! Но теперь они и сами переходят на механические.
Василий Данилович искал зацепку, «японцы» были просто предлогом. В иные времена Мамед не уклонился бы от беседы, поболтал бы, тем более, что техника была его «коньком», но теперь он был не охотник до шапочных знакомств и спонтанных прекраснодушных излияний, стал не то чтобы остерегаться людей, но более щепетильным и разборчивым. Не любил, честно говоря, словоохотливых, особенно тех, кто плакался в жилетку и выставлял свои болячки. Что касается «японских штучек», то у него было свое мнение на этот счет, и продлись их общение, он бы вступил с Василием Даниловичем в спор и стал бы распространяться о пользе и благе японских новшеств для цивилизации… Возможно, и укорил бы старика и тех, кто не может радоваться чужому успеху…
Мамед был компьютерщиком, и далеко не каждый специалист в городе мог бы потягаться с ним. Но держался в тени, трудился в одной из небольших типографий дизайнером, и там, в подвальном помещении, устроил платные курсы и посвящал любознательных юнцов в азы ремесла. С поколением шустрых и продвинутых компьютерщиков, ловкачей-хакеров, ворующих программы стекавшихся в город инофирм и продающих их доморощенным дельцам, ему было не по пути. Поднаторевшие в этой сфере фирмачи предпочитали брать на работу «своих» знакомых и их отпрысков, мало-мальски кумекающих в английском языке, и охотились за наваристыми клиентами-иностранцами. Таким образом в городе плодились мелкие артели компьютерщиков. Мамед держался от них подальше, говорил, что они не способны чувствовать живую душу этих умных машин и постепенно сами теряли душу…
* * *
В метро они смогли отогреться. Доехали до станции «Гянджлик».
– Может, податься мне в лесопарк возле зоопарка и поискать там какой-нибудь цветочек… веточку?.. – проговорил Василий Данилович, не вынимая рук из карманов пальто. Поколебавшись, он решился высказать предложение, которое держал «про запас»: – Знаете, что? Я могу вам показать такие часы, что ахнете. Эти штампованные японские, тайваньские штучки – бесчувственные, безликие продукты конвейерных монстров. Вы уж поверьте старому мастеру, дорогой Мамед. Окажите милость, пойдемте со мной… Маргарита Евгеньевна воспрянет духом… Я не останусь в долгу за оказанную честь…
– Аллах с вами, какая честь? И что может изменить мой визит?
* * *
Они обошли лесопарк в поисках какого-нибудь нечаянного цветочка или веточки с набухшими почками. Василий Данилович шагал уверенно, легко ориентируясь в густом зеленом массиве, – сосны, кипарисы, софора, тутовые деревья, фисташки, какие-то кусты, похожие на тамариск. Видимо, старик был изначально уверен в бесплодности поисков; пока они бродили по лесопарку, он успел рассказать о своей трудовой биографии: о том, как тридцать пять лет проработал часовщиком возле сквера, который бакинцы именовали «Парапетом», о связях с одним из часовых заводов в России, о том, что даже сейчас имеет честь быть торговым представителем одного российского завода в республике; а главное – о своем хобби, – оказывается, он коллекционировал антикварные часы. К клиентам обращался не иначе как со словами «господин» и «мадам».
А в последние годы к нему заглядывали не столько по делу, сколько затем, чтобы разговорить его о старых добрых временах. Мальчишки, куролесившие на Парапете, посмеивались, глядя на его старомодную шляпу и передразнивая его церемонную речь.
– Российские часы берут только европейцы, как раритет или экспонат, даже «Командирские» часы не пользуются спросом… Ведь магазины наводнили японские изделия, к тому же дешевле…
Пройдя через лесопарк, дошли до распотрошенного, развороченного памятника, из которого торчала арматура, дальше открывалась улица, по которой ходил доживавший свой век трамвай. Стужа давала о себе знать, и пролязгавший по рельсам 14-й номер вернул Мамеда к реальности дня, и он мысленно отругал себя за это бессмысленное утомительное хождение по парку и вообще неумение избегнуть праздной траты сил и времени.
Вот и остановка. Трамваем можно было добраться восвояси; но он вспомнил, что дал слово Василию Даниловичу заглянуть к нему домой и поглядеть его антикварные сокровища, которые в принципе Мамеду были ни к чему, так же, как Василию Даниловичу – бессмысленная и бесполезная экскурсия по лесопарку в этот неуютный и промозглый мартовский день.
И Мамед ощутил себя в роли живого сюрприза, который его словоохотливый попутчик хочет преподнести своей неизлечимо больной супруге.
Они перешли через трамвайную линию, и Василий Данилович, как охотник, поймавший добычу, воодушевленно продолжал откровенничать:
– Маргарите Евгеньевне, знаете, господин Мамед, нравятся сдержанные, степенные натуры, чего не скажешь о вашем покорном слуге… И ей приходится терпеть столько лет такого чудака.
Старик обернулся, взял Мамеда под руку и, то ли из желания расшевелить приунывшего знакомца, то ли в оправдание своего жеста, могущего показаться неуместно-панибратским, стал доверительно посвящать его в семейные заботы и треволнения.
– Володя служит в Тихоокеанском флоте, подводник… Маргарита говорит, сын в нее пошел. Оно и верно. Взялся за толковое дело, о семье, о нас, стариках, не забывает, знает цену честно заработанному хлебу. А с дочкой не повезло… Здесь, в Нефтяной академии, сошлась с каким-то арабом и умотала за границу, а там наш иностранный зятек произвел на свет мальчика и бросил дочь с ребенком на произвол судьбы… Писала на первых порах, а сейчас ни слуху, ни духу. Бог знает, в каких пустынях валандается. Маргарита отчаялась… говорит: отрезанный ломоть…
Старик казнился, что предоставил дочери слишком большую свободу, которая дорого обошлась.
* * *
Дом был старый, дореволюционной постройки, с высоким потолком и массивными стенами. По квартире разносилось мерное тиканье часов. Пройдя по длинному коридору, гость вошел в комнату, застеленную крепким дубовым паркетом; его взору предстало целое царство разнообразных часов. Вся стена обвешана ходиками; на паркете напольные.
В просторной комнате (видимо, некогда служившей гостиной бывшим хозяевам) не оставалось места для прочих вещей, мебели, за исключением двух видавших виды обшарпанных кресел; макушки напольных часов в дощатой обшивке, выглядывавших друг из-за друга, напоминали деревянные надгробья. Василий Данилович, оставив гостя на пятачке, исчез за белой дверью, ведущей в смежную комнату, и, вернувшись, чуть ли не на цыпочках пробрался к стене и застыл в углу, скрестив руки на груди, он улыбался и ждал какого-то отзыва от гостя. Без пальто он выглядел помоложе и элегантнее.
После воя колючего холодного ветра, свиста проводов многозвучное тиканье часов показалось музыкой какого-то другого, отрешенного от суеты мира. Мамед, покосившись на хозяина, хотел было что-то спросить у него, но раздумал, завороженный звучанием этого странного оркестра, в котором различались низкие, басовые и высокие, тонкие ноты; вроде бы набор монотонных звуков, но нет, это была музыка, в которой были своя поступь, ритм и гармония, властно подчиняющая своей магии все окружающее, и все предметы, даже сухая ветка, качавшаяся за окном от порывов ветра, казалось, колеблется в такт игре этого «оркестра», и нагие деревья качались в такт этой музыке…
Василий Данилович молча наблюдал за реакцией гостя. И, похоже, чтобы усилить произведенный эффект, открыл панель антикварных часов, стоявших в углу, включив механизм боя. И поплывшие мелодичные удары влились в симфонию этого оркестра. И последний аккорд, затихая, ушел, истаял в железном чреве часов, канул в нетях.
Василий Данилович подал знак, приложив палец к губам. Так же на цыпочках удалился и вскоре, вернувшись, жестом пригласил гостя в смежную комнату.
– Спит, – шепнул он Мамеду. – Слава Богу. А то ведь никак не могла уснуть… В последнее время стала, как дитя. Проснется и не застанет меня рядом – пугается… Прошу вас, зайдите ко мне завтра… Я, знаете, решил презентовать вам часы, – он показал рукой на свое достояние, – какие вам приглянутся. И с ней должен познакомить вас… Стало быть, полегчает ей… Пока поглядите коллекцию… если хотите…
Маргарита Евгеньевна, лежа на боку, спиной к двери, забылась сном, одеяло сползло с нее, лежала в шерстяном халате, на пухлых ногах вязаные носки. Оба молча взирали на женщину, пытаясь уловить звуки ее дыхания. Василий Данилович приблизился к ней, приложился ухом к ее спине; кивком дал понять гостю: «дышит». Приобнял ее, осторожно принюхался к затылку, коснулся волос; тихонечко погладил плечо. И, будто совершенно забыв о Мамеде, уронил голову на подушку. Женщина и не шелохнулась. Мамеду стало неловко. Он поспешил ретироваться.
Вернулся в гостиную, к антиквариату, и снова окунулся в странную, мистическую стихию ритмичных звуков, отмеривающих время, бесконечное время; несметные мгновения сменяли друг друга, непрерывно обновляясь, как все сущее на земле, как поколения людей, проживающих отпущенный срок, стареющих, уходящих под эту вечную музыку оркестра Времени, и миллионы ничтожных мгновений поглощают тебя раз за разом, и ты растворяешься в них, в их победительном, неудержимом потоке…
Взгляд его задержался на ветке за окном, нет, она не была сухой и мертвой, на ней проснулись набухшие почки, вот-вот проклюнутся листочки; а ведь они обшарили весь лесопарк в поисках такой вот живой веточки…
Он провел рукой по старым напольным часам, стоявшим у подоконника, они напоминали маленькое надгробье… На циферблате значилось: «Adler Yong». Корпус был сработан из какого-то дерева, темно-фиолетового цвета. Ладонью стер пыль – цвет стал ярче, ожил. Но железные внутренности были мертвы. Стрелки застыли.
Он окинул взглядом комнату, прошелся осторожно между драгоценными реликтами.
Мертвые часы были единственными.
Он все еще держал в руках белые гвоздики, купленные для жены.
* * *
В субботу он не смог наведаться к Василию Даниловичу. Выбрался только в понедельник, к вечеру.
Дверь была открыта.
Прошел в квартиру и услышал знакомое тиканье. «Оркестр» продолжал играть.
Посреди комнаты, где стояли часы, в кресле сидела женщина в шерстяном платье, он узнал Маргариту Евгеньевну, хотя и видел ее только мимолетно, со спины. У окна стояли три незнакомые женщины, прислонившись к подоконнику. Одна из них заслонила собой «Adler Yong».
Маргарита Евгеньевна, поднявшись с кресла, сделала шаг-другой навстречу гостю и остановилась.
– Вы…
– Я к Василию Даниловичу…
– Присядьте, пожалуйста. Вы из его друзей?
Мамед кивнул. Она заковыляла к смежной комнате, у белых дверей приостановилась и, обращаясь к женщинам, посетовала:
– Он, бедняга, показывал свои часы всему свету…
И – Мамеду:
– Не обещал ли он вам подарить из этого добра?.. Вы знаете, он хотел их распродать, да не знал, как людям растолковать… стеснялся… Вы можете, если угодно, посмотреть, приглядеться… Он сам и цену не мог назначить… Знаете, на поминки расходы… Я сама назначу… Нет, пусть приедет Володя, он знает толк в таких делах…
Она подошла к осиротевшей коллекции.
– Как на грех, и телефон отключили… Мы дали Володе телеграмму. Конечно, прибудет… Я Василию покойному сколько раз твердила, оплати же наконец этот телефон, будь он неладен…
1996г.
Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ
|
|