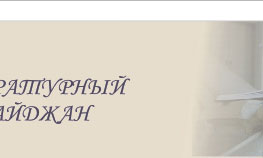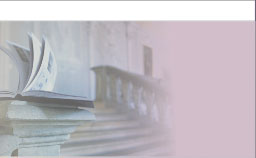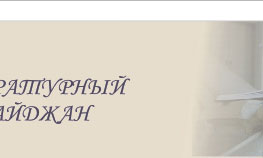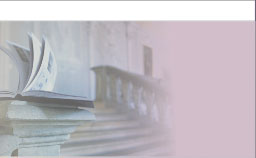|
Минус двадцать восемь
Можно просто уйти. Не ища причин. Не придумывая объяснений. Засунуть руки в карманы брюк. Слегка приподнять плечи. Склонить голову вправо. Потереться подбородком об уголок приподнятого воротника пиджака. И сделать тот самый шаг.
Карманы
Он спускался. Не цепляясь за выступы. Не хватаясь за надуманное. Упрямо запрещая помогать себе руками, оправдываться и скрывать от самого себя нескончаемый монолог. Споткнулся об камень и, пытаясь удержать равновесие, больно ударился плечом об нависший выступ. Выдернул руки из карманов, ухмыльнувшись детскому упрямству, которое так и не сумел перебороть в себе, и, глядя с вызовом на копеечную липучую ленту, с помощью которой держались две половинки пластиковой оправы на переносице учителя, снова встал у черной на всю стену доски.
Его вывели к доске, потом из класса. Не за то, что опоздал или не выучил урок, а за то, что все еще продолжал «нагло держать руки в карманах». Правда, сказавший это учитель так и не смог выдернуть его сильно сжатые кулачки из тесных карманов темного ученического пиджачка и поэтому выдворил из класса.
Старшая сестра не раз говорила, что держать руки в карманах неприлично. Родителям, которые все время смотрят на них сверху, это тоже не понравилось бы. Последнее она обычно добавляла очень тихо. Словно невзначай. Отводя глаза в сторону. Избегая взгляда его детских доверчивых глаз.
Тогда он все еще верил, что если будет себя хорошо вести, то они обязательно вернутся. Быстренько вытаскивал руки из карманов. Старательно вытирал рот и руки протянутым платком. Запрокидывал голову. Закрывал глаза и ждал.
Кто-то и правда склонялся над ним. Чьи-то губы мягко касались лба.
Он вздрагивал от восхищения. Резко открывал глаза, предвкушая осуществление долгожданного, и видел совсем близко лицо сестры. Ее глаза, в которых было нечто такое, что сдерживало просящееся каждый раз наружу разочарование.
Она любовно гладила его по мягким пушистым волосам, брала за руку и вела за собой, не замечая того, как он подавлял в себе нечто, не совсем еще понятное его детскому восприятию, и осторожно протискивал свободную руку обратно в карман.
Вечером сестра зашила ему все карманы ученической формы. Он сидел рядом, с интересом наблюдая за ее проворной иголкой. Она откусила нитку, взглянула на него, вздохнула, притянула к себе, обняла и прошептала то, что несколько озадачило:
– Дома делай что хочешь, а в школе будь как все. Ладно?
Он широко улыбнулся и кивнул в ответ. Тоже обнял ее и торжественно пообещал, что будет как все.
Обещание свое он сдержал. И сестру снова вызвали в школу. На этот раз за то, что вместе с другими мальчишками из класса, чьи родители тоже, не найдя лучшего объяснения тому, почему неприлично держать руки в карманах, просто зашили их, опять ходил по школьным коридорам, положив руки в карманы брюк.
С помощью нехитрых инструментов мальчишки распороли карманы и, как громко возмущалась грудастая завуч, потрясая своим достоянием в белой блузке с кокетливой гипюровой вставкой в области декольте, демонстративно ходили «руки в брюки». На слабый протест одной из родительниц, что во время большой перемены, когда дети ходили «руки в брюки», вроде, не грех побездельничать, завуч возмутилась, затряслась и не терпящим возражений тоном сказала, что большая перемена дана для активных игр и отдыха в организованном порядке, а не пижонским выходкам и явному хулиганству. Тут подключилась классная руководительница, которой очень важно было «донести до родителей» выписанные на обратной стороне пожелтевших от времени и утративших значимость библиотечных карточек цитаты из авторитетных источников «об особенностях воспитания подрастающего поколения в условиях...». В каких именно, правда, она не успела «донести», так как завуч нетерпеливо прервала ее, отрезав, что «авторитетных» каждый может и должен изучить самостоятельно и наизусть.
На этом собрание закончилось. Сестра пришла домой уставшая и снова зашила карманы.
Школу он закончил. С зашитыми карманами и с золотой медалью.
Институт заочно. Так и не сказав сестре правду, которая заключалась в том, что он нарочно завалил себя на единственном экзамене. Демонстративно засунув руки в карманы, прохаживался потом по длинным коридорам, лишь мучительно обдумывая, как будет скрывать от нее целых шесть лет то, что завалил себя сам, чтобы начать работать и не висеть у нее на шее.
Вопросы
Он прислонился к каменному выступу и рассеянно взглянул вниз. Закрыл глаза, запрокинул голову и застыл, как в детстве, в ожидании поцелуя в лоб.
Что-то и правда коснулось его лица. Он усмехнулся тому, что все еще может это ощущать, и тут же нахмурился, поняв, что воспоминания о сестре были вытиснуты бесцеремонно нахлынувшим из того, что давно уже потеряло свой первоначальный цвет, звук и запах и в его предопределенной повседневности ни с чем другим, кроме хронической болезни, с которой привыкаешь жить, никак теперь не ассоциировалось.
Она приблизилась. Он задохнулся от непривычной остроты сжавшей его сердце боли, запаниковал и отвернулся. Она прильнула к нему всем телом, прижавшись сначала к спине, прокравшись затем в оставшееся между ним и холодным камнем пространство.
Он медленно открыл глаза и всмотрелся в поросший мхом и потрескавшийся от времени кусочек каменистого выступа, словно именно здесь можно было наконец-то прочитать все ответы на мучившие его вопросы с того момента, как она ушла. Вопросы, которые он потом силился вспомнить с той самой минуты, как она вернулась.
Она вернулась. Долго объясняла что-то, во что он никак не вникал. Заклинала его покойными родителями, которых он сам-то толком не помнил, потом сестрой.
От всего этого он нервно дернул шеей, на которую она незамедлительно бросилась, растолковав все так, как в неприемлемой для него скорости уложилось в ее логику происходящего.
Осторожно высвободившись, он пробормотал, что должен идти. Она недоуменно смотрела на него, пытаясь поймать взгляд. Он объяснил, что надо купить апельсинов. Потом подумал, что «апельсины» в девять вечера звучат менее убедительно, и поспешно исправил их на «хлеб».
Так, даже не засунув руки в карманы, он вышел за хлебом, двадцать восемь лет назад. Из дома, где родился он и скончалась сестра.
Дошел до нервозно подмигивающей вывески над угловым магазинчиком, постоял, позволяя названию «Кёкя» больно бить в глаза лихорадочно меняющимися световыми эффектами, и вошел в магазин, где за прилавком стоял кругленький, упитанный продавец. Окинул его взглядом и вместо буханки хлеба спросил:
– Слушай, Колобок, почему гастроном твоим именем назвали?
Не дожидаясь ответа, вышел, лишь обратив внимание на то, что густые черные брови продавца возмущенно поползли вверх, а толстые щеки затряслись.
Сел в такси и уехал.
– На корабле лучше не ужинай, брат, – доверительно посоветовал ему таксист, когда он расплачивался, сказав ему остановиться у набережной.
– Почему?
– Там крысы живут, брат, – охотно объяснил таксист, – сначала они едят. Потом персонал. А что ни им, ни крысам не нравится, то тебе на тарелку положат.
– Ладно, не буду, – пообещал он.
Таксист внимательно оглядел его и спросил:
– За тобой заехать? Обратно поедешь?
– Обратно не поеду. Но ты приезжай. У меня тут... небольшой разговор есть.
Таксист понимающе кивнул и, отъехав, остановился под деревом.
Разговор был с морем.
Долгий.
Ровно час.
Когда он вернулся, водитель такси некоторое время удивленно рассматривал его.
– Тебя что, искупали, брат? – посочувствовал он.
– Нет, это я сам...
Что же было потом?
Он прижался щекой к холодному каменному выступу, позволяя ему вбирать в себя тепло начавшей гореть щеки, не желая отвечать на этот вопрос, возвращая себя к черной на всю стену доске. Впрочем, в этом не было особой необходимости. Уроки преподносила жизнь. И прогулять их при всем желании не было никакой возможности.
Обрывки
Потом было пусто.
Вернее, как в забытьи. Когда никак не можешь очнуться, хотя тщетно пытаешься.
Приближающееся и отдаляющееся, входящее и уходящее, совершенно не заботящееся о том, узнаешь или нет.
Беспробудное, обрывистое, нескончаемое, тяжелое, в котором продолжаешь вздрагивать от взлетов и падений.
После нее любимых больше не было.
Были женщины.
Одни приходили, другие уходили. Осторожные. Играющие. С улыбкой. С нахмуренными бровями. Что-то ожидающие. Требующие. Просящие. Он их принимал и отпускал. Без радости и разочарований, без боли и сожаления. Точно так, как можно это себе позволить, находясь в забытьи.
Были еще дети. Свои, чужие.
Кто-то проколол потом две шины и профессионально снял лобовое стекло с его новенькой престижной иномарки.
Свои ли, чужие ли...
Грузные мужчины, похожие на запомнившегося продавца из углового магазинчика. От которых зависит то, что он не в состоянии изменить сам.
Ненависть. К себе. К ним. К неизбежному.
Самолеты, поезда. Здания. Коридоры. Двери. Столы. Круглые, квадратные, с дыркой посередине и из прозрачного стекла, под которыми можно разглядывать собственные ноги и носки партнера. Проекты, отчеты. Растущие, как на дрожжах. Возвышающиеся горой перед глазами. Шестиэтажное вырастающее в шестнадцатиэтажное, тридцатиэтажное. Срочно вкладываемое. Вовремя забираемое.
И врезавшийся в эту полудремоту бросающий камнями в прохожих маленький сопливый пацан у подлежащего сносу неказистого домика недалеко от центра. Тянущая его за руку домой девчушка с крысиными косичками, приговаривающая, что все будет хорошо, только если он себя будет хорошо вести.
Он смотрел на них из машины, где перед его носом вертел бумагами с чертежами и сметой проворный юноша, одетый по этому случаю в новенький блестящий костюм. Девчушка пристально взглянула ему тогда в глаза, словно чувствуя какую-то немую угрозу. И так, не отводя взгляд, сказала, обращаясь к братишке, что по любому вечером ему опять попадет и от отца, и от матери, потому что впереди долгий длинный день и уж она-то не сомневается, что до вечера он еще не раз успеет напакостить.
Потом, когда размашистым почерком подписывались документы, утверждающие проект возводящегося на этом месте, охватившее его чувство зависти к этому уже бездомному мальчугану, которого вечером под крышей пока еще того места, которое они называют «домом», отругают родители. Потому что родители его живы, потому что у него есть маленькая сестренка с крысиными хвостиками, которой не нужно рано взрослеть. И потому, что бросающий камешками в прохожих пацан еще может совершать большие и маленькие, но все еще большей частью безобидные глупости, на которые он уже никак не может претендовать.
И стыд. Тот самый. Постыдный. Когда стыдишься самого себя. Собственных мыслей, но все равно ничего уже не в силах изменить, разве лишь тщетно пару раз все еще пробуешь очнуться...
А может, все сложилось так и не иначе оттого, что не было больше касающихся у его лба губ? Он вопросительно вгляделся в небосвод. Ухмыльнулся и подмигнул ее глазам, которые никогда, как тщательно ни вглядывался, не мог разглядеть ни в падающих на него сверху дождинках и снежных хлопьях, ни в молчаливо мерцающих над головой звездах, ни в проплывающих прямо сейчас над городом облаках. Снова прислонился к выступу, прижавшись к нему теперь виском, и засунул руки в карманы.
Сестра уже давно умерла, и ей теперь абсолютно все равно, где он держит свои руки. И все же он смущенно вытянул их из карманов. И вдруг понял то, что спрятал руки только раз в жизни. Когда столкнулся лоб в лоб с предавшим его единственным другом, чтобы по привычке не протянуть их навстречу и не похлопать по плечу.
Он скривил губы и сузил глаза, снова поглубже засунул кулаки в карманы и прижался плотнее к холодному камню, злорадствуя над тем, что предать его уже невозможно.
Друзей у него не было. Все больше приятели, просто знакомые, деловые контакты, коллеги по работе, а потом подчиненные. Эти не предают, только подставляют. Могут создать неверный имидж, примитивно настучать или, изощренно маскируясь под словом «команда», начать организованную травлю. Все что угодно. Но не предать.
Предают те, кому отдаешь себя. Целиком. По частичкам. Порою растягивая это на годы. А ему больше нечего отдавать. У него ничего больше не осталось, кроме как повернуться и уйти.
И он ушел. То ли в тот день, когда понял, что его предали. То ли когда неожиданно умерла сестра, и он остался после всех на кладбище у срочно купленной ямки со свежеприсыпанной землей, подставляя ледяному ветру сжатые кулаки. То ли когда бессильно опустились руки, механически ощупывающие подкладку карманов пиджака, пока он пробегал глазами короткую записку любимой, которую так никогда не смог ни простить, ни забыть.
Холодный камень потеплел. Он осторожно оторвался от него, повернулся лицом к городу и, не вглядываясь в простиравшееся перед глазами, выкрикнул прямо вниз то, что мучило сейчас, вложив это в один-единственный звук, вернувшийся к нему гулким тревожным эхом.
Точки
– Вы понимаете насколько это оригинальная идея? Такого в мире пока нигде нет!
Мужчина в темном полупальто буквально захлебывался словами. Стоявшие вокруг него кружком потенциальные партнеры сочувствующе кивали.
– Мы не просто комплекс соорудим, а воздвигнем такое, чтобы сравнять самую низшую точку города с самой высшей!
Он вожделенно обвел глазами собравшихся вокруг него. Вытянул руку по направлению потенциальной строительной площадки, с которой они поднялись затем наверх, чтобы отсюда оценить то, что будет воздвигнуто внизу.
Однако особого энтузиазма ни сказанное, ни его победоносный вид ни у кого не вызвали. Тогда он нервно схватил услужливо раскрытые сопровождавшими его лицами документы и продолжил, тыкая пальцем в цифры и чертежи. Несколько голов сомкнулись над этими с готовностью раскрытыми папками, образовав распластавшееся на весу животное черно-серо-белой окраски с местами облезшей шерстью.
Некоторое время он просто наблюдал за этим беспокойным животным, улавливая обрывки доносящегося словно из-под тяжелого одеяла, набитого старой, свернувшейся в узлы и комки, овечьей шерстью:
– Это одна из престижных зарубежных компаний...
– Да у нас тут своих хватает...
– А сколько этажей получается...
– Это нереально...
– А зачем сравнивать? В смысле точки...
– А в Японии, между прочим...
– Мы не в Японии...
– Кризис учитывайте...
– Вас, строительных, сколько тут уже?
– Более двухсот...
– На один город?
– Не, нереально...
– Реально, просто стоит ли...
– А зачем точки-то...
Чувствуя на себе взгляд оторвавшейся от соединенных голов одной с плешиной, он отвернулся и начал спускаться вниз, окончательно отмахнувшись от последнего, долетевшего до него:
– В ваших же интересах...
___________
Он начал спуск. Не спеша. Не цепляясь. Не хватаясь. Упрямо запрещая помогать себе руками и мысленно всматриваться в провожавший его долгий взгляд.
Споткнувшись о камень, больно ударился плечом о нависший над тропинкой выступ. Задержался и, потирая ушибленное плечо, рассеянно взглянул на город.
Подавляя старые шестиэтажные постройки, казавшиеся ему громадными сооружениями в те времена, когда его стыдили у черной доски, у самого горизонта длинноногими моделями выстроились высокоэтажные дивы. Между ними, подражая вездесущим организаторам всевозможных конкурсов, затесались строительные краны. Любопытными жирафами они простирали свои железные желтые шеи, стараясь переступить через черту того, что скрывается обычно от посторонних глаз. Правда, на высокоэтажные дивы все это особого впечатления не производило, так как они были уверены в том, что желтые жирафы лишь отыскивают новое местечко для того, чтобы, переставив железные ноги, начать возводить еще одну сверхмодную жилую трубу.
Отступив чуть подальше от моря, город прикрывался от них своим старым центром, пытаясь отбиться от возвышающихся прямо за его стенами новостроек. Правда, творящиеся в самом его сердце архитектурные и иные безобразия было сложно усмотреть и с этой высоты. Не видел он отсюда и того здания, которое, несмотря на повсеместные протесты, полностью разрушили, оставив лишь фасад. Отмахнулся от щупленького старичка, лицо которого так и осталось с ним, наверное, из-за того, что чем-то, может, дешевой пластиковой оправой, сильно напомнило ему школьного учителя, так и не сумевшего вытянуть из карманов его крепко сжатые кулачки у черной доски из далекого детства.
Старик опять, как тогда, вдруг затрясся всем телом и выронил старые пожелтевшие страницы канувших в Лету изданий. Он нагнулся, чтобы помочь ему собрать еще минуту назад бережно раскрываемые и зачитываемые вслух свидетельства и доказательства того, что делать никак нельзя.
Но старичок страшно закричал на него:
– Хотя бы этого ваши руки пусть не касаются!
Дрожащими руками аккуратно собрал все и ушел неверной походкой, оставшись в нем навсегда.
Старик ушел, а он быстро подписал дававшие прибыль бумаги и теперь лишь тщетно пытался отсюда, с этой высоты, найти одинокий фасад. Но лишь рассеянно скользил невидящим взглядом по спутниковым тарелкам и наружным коробкам кондиционеров, паразитами всосавшихся в стены старых зданий, все еще стойко выдерживающих их и натиск толпящихся совсем рядом архитектурных моделей.
Камень предательски выскочил из-под чьего-то каблука и покатился вниз, с глухим стуком пару раз ударившись о пологую гору, словно оповещая кого-то внизу о своем приближении.
Он повернулся на первый глухой звук.
Они встретились глазами.
Он кивнул, слегка сжав кулаки в карманах.
Приближавшийся к нему мужчина с готовностью кивнул в ответ и, подойдя, торопливо сказал, прерывая себя и запинаясь:
– Я ведь не сразу... не узнал... столько лет прошло... – и ушел взглядом в его спрятанные в карманы руки.
Клочки
Бывший друг постарел. Облысел. Говорил с небольшой одышкой. О проекте, строительстве, архитектурной дерзости и оригинальности, потом, тревожно поглядывая на него, все еще не проронившего ни одного слова, без плавного перехода стал жаловаться на повышенное давление.
Он смотрел вниз, стараясь не встречаться глазами, не желая услышать то, что все равно уже ничего не могло изменить.
– Ты хоть дома, понимаешь...
Он искоса бросил взгляд на тот самый профиль, который быстро выделял из любой мальчишеской ватаги, и снова вздрогнул, когда сухие бледные губы вновь зашевелились на этом теперь уже совсем чужом для него лице. Чуть надтреснутый голос продолжил рассказывать, но не о том, что он пытался все эти годы понять, представить и часами рисовал в своем воображении в коротких передышках забытийного:
– Знаешь, что самое страшное в жизни? Не падения, утраты и болезни, даже не ежедневная мысль, что никогда не сможешь вернуться. Не тоска: по земле, по тем, кого оставил, по собственному прошлому, ради маленького кусочка которого, ради желания заново пережить его, хочется выть от тоски. Самое страшное – это возвращаться назад. Никогда этого не делай...
Претендующий на совместное прошлое лысый мужчина вгляделся в его молчаливый профиль и вдруг сказал то, чего он меньше всего ожидал и отчего захотелось вдруг выдернуть кулаки из карманов.
– Впрочем, тебе это не грозит. Ты же никуда не уезжал. Высидел тут все... всех... и даже развернулся... отстроился... Красиво. Но только честно, как другу, скажу...
Лысый запнулся, заметив невольное движение, которое он сделал при последних словах, все еще оставаясь к нему полубоком и держа руки в карманах. Поперхнулся чем-то тяжелым, не желавшим проходить через горло, проглотил это и, переборов еще что-то в себе, упрямо продолжил:
– Конечно, деньги не пахнут, но все то, что здесь... понастроили...
Он опять поперхнулся. Откашлялся и недовольно буркнул:
– А теперь проект наш губите...
Вовремя спохватился и, стараясь не опережать события, снова торопливо заговорил:
– Знаешь, вчера прошелся по вечернему городу. Шел по тем самым улицам, по которым бродил все эти годы... по ночам, во сне. Ничего не узнавая, никого не узнавая, никому не протягивая руки, ни с кем не здороваясь. Но... даже не это самое страшное. Города нет. Понимаешь... Нет его... Где он? Что вы с ним...
Он резко прервал себя, прерывисто вздохнул, горестно развел руками, замигал глазами, как готовый расплакаться мальчуган, и затих, беспомощно уставившись на медленно погружающийся в сумерки город.
Внизу шла своим ходом размеренная жизнь. Возвращавшиеся с работы успевали забежать и купить кое-что из продуктов, заранее негодуя на то, что, втиснувшись в медленное движение по городским улицам, опять потеряют в его вечных пробках свое драгоценное время. Запихнутое во всевозможные наземные транспортные средства, прижавшееся носиком и прислонившееся лбом к стеклу, важно сидело будущее города, наблюдая, словно на экране телевизора, как многоголосый неугомонный город зажигает свои первые огни, отражающиеся блеском в его широко распахнутых доверчивых глазах.
Они стояли почти рядом, жадно вбирая доносившиеся снизу звуки. Один из них все еще держал руки в карманах, прислонившись спиной к холодному камню, другой провел ладонью по облысевшей голове и, не зная как сказать самое главное, ради чего он, собственно говоря, влез в этот проект и деловую поездку, снова тихо заговорил:
– Помнишь тот контракт... самый первый, что подписывали... Та гостиница, которой уже нет... Ничего нет. Понимаешь, пустое место... Бабушкин дом. Детсад напротив. Школа сама по себе разваливается, про наш дом вообще не говорю, он еще тогда под прицелом был... место хорошее... Все снесли... ну, я понимаю, если здание аварийное... а добротное зачем... И то место, где я впервые поцеловал свою жену...
Обломки
Он инстинктивно сжал кулаки в карманах, впившись ногтями в ладони.
Бывший друг снова поперхнулся чем-то тяжелым и, откашлявшись, так же упрямо продолжил:
– Она просила тебя найти. А я даже не знал, что встретимся так вот... в первый же день... Просила... передать... привет и... еще...
Что-то заставило теперь и лысого сжать кулаки. И словно бросая вызов демонстративному молчанию, он снова упрямо заговорил, не ожидая больше никаких ответных слов.
– ...мы же уже не дети. Смотри, сколько прошло. И потом, она хотела быть с тобой. Ты же сам ушел. Пропал. Мы тебя искали, были уверены, что ты просто залег... А потом... так все повернулось... Ты не думай, что мы там в меду и масле катались. Смотри, сколько лет прошло, только недавно все бумаги свои наконец-то... Через что нам пришлось пройти...
– А сколько всего наговорить... о себе, о людях, о городе...
Лысый удивленно оглянулся на него, впервые услышав его глухой, но ничуть не изменившийся голос. Придя в себя от неожиданности, осторожно сказал:
– Ну, город хотя бы не трогай. Смотри, что с ним...
– А что мы сделали? – снова резко оборвал он. – Ты укатил и забрал с собой... самое лучшее... А мне что ты оставил? Крыс в корабельных ресторанах и старые дома с канализацией во дворе? А потом надеялся вернуться и увидеть все таким, как оставил?
Он так же резко замолчал и, не услышав ответа на вопросы, которые не задавал, тихо и уверенно добавил:
– Это вы его уничтожили. Разнесли по кусочкам, увозя с собой в разные уголки света, а теперь недоумеваете... ищете...
Кажется, лысый заплакал.
Может, показалось.
Но он все же осторожно разжал кулаки, вытянул руки из карманов и замер, не глядя на него и не желая видеть мокрые следы на его щеках. Вместо этого снова всмотрелся в город, пытаясь в вытянувшихся в струнку новостройках рассмотреть то, что было навсегда захоронено под ними и в его сердце. Поднял голову вверх, к темнеющему небу, на котором зажглись первые звездочки.
– Что передать? – донесся до него, словно сквозь толстую стену, надтреснутый голос.
Он повернулся на голос и в эту минуту впервые после долгих лет увидел перед собой бывшего друга. Что-то больно кольнуло в самое сердце. Он взмахнул рукой, поспешно спрятав ее в карман, снова вытянул и бессильно опустил, слегка удивившись тому, что привычный в горле комок вдруг как-то странно повел себя, пытаясь выйти наружу душившими его мыслями, чувствами и словами. На мгновение даже показалось, что он наконец-то очнулся от чего-то затяжного, беспробудного. Он с удивлением взглянул на город, увидев в привычной панораме то, что глаз давно уже никак не выделял.
Выглядевшие совсем недавно длинноногими моделями здания мрачными черными трубами уходили в вечернее небо. Вездесущие желтые жирафы улеглись на ночлег, затесавшись где-то между ними, стараясь не обращать внимания на то, что даже в самых элегантных высокоэтажных дивах одноглазыми огоньками горели всего лишь несколько окон. Кажущиеся в вечернем разноцветии огней города хмурыми калеками новостройки одинокими глазами с завистью смотрели теперь вниз, вслушиваясь в людское многоголосие низеньких строений с ярко светящимися окнами.
А старые дома, позабыв всю дневную суету и разговоры о том, что и их скоро снесут, старались подарить немного своего света длинноногим жирафам с желтыми шеями и новостройкам, ставшим в ночной тиши усталыми худосочными старушками.
Он прерывисто вздохнул, вновь резко ощутив ее присутствие. Вдохнул давно увядший в воспоминаниях запах ее волос, ножом вошедший в грудь безответными вопросами.
Хватит ли одной жизни, чтобы забыть человека?
Сколько человеческих жизней нужно прожить, чтобы исправить содеянное в одной?
Он оглянулся на стоящего рядом. Заглянул в лицо, которое безошибочно выделял из любой мальчишеской ватаги. Молча подождал, пока с невероятной скоростью меняющиеся у него на глазах черты не превратились в чужое лицо лысого мужчины.
С силой стряхнув с себя остатки нахлынувших чувств, он отпихнул назад вставший в горле комок, послушно и тяжело спустившийся вниз и привычно легший вновь на сердце, отвернулся и, балансируя на вытянутых в струнку собственных нервах и еще на том, что стало частью его самого, начал спускаться вниз.
Лысый беспомощно смотрел ему вслед.
Город мерцал вечерними огнями, наблюдая за тем, как с самой высшей его точки разными дорогами спускались вниз два бывших друга, поняв, что оба направились теперь к его старому сердцу. Выйдя затем к набережной, каждый отыщет там свою низшую точку у прибрежных волн с тем, чтобы выплакать собственное бессилие, смешав слезы с морскими солеными каплями, потому что не подобает плакать мужчинам.
И лишь он один будет знать тайну двух друзей, похоронив ее в старом центре. В своем сердце, куда сбегаются со всех сторон маленькие тайны всего того, что рушится в городе высотой двадцать восемь метров ниже уровня моря.
Раз, два, три
Жили-были в одном городе Некоторые, Другие, Иные и Те.
Некоторые жили так же, как и плыли. Брызгами расчищая себе дорогу.
Другие так, как водили машину. Срезая остальным путь.
Иные, как на стройке. Отгородившись от остального мира, заботливо скрывали за высоким забором с надежными воротами заросший колючками кусочек чего-то.
А Те, как в поездах и самолетах. Радуясь тому, что все так быстро пробегает перед глазами и нет никакой возможности во что-то всмотреться. И еще тому, что все и так осталось позади и можно заморозить достигнутое на набранной высоте.
И все бы ничего, жили бы себе да и жили, но только все так сильно были заняты тем, что делают, пока вот так вот жили, что попросту не заметили того, что рядом с ними все это время находились еще и Такие, которые не умели или не хотели плавать, водить машину, путешествовать и строиться.
И вот собрались однажды все Такие, из которых каждый чего-то не умел или не хотел, и решили жить вместе, чтобы было легче противостоять брызгам Некоторых, переходить дорогу в неположенных местах назло Другим, обходить большие заборы Иных и не тратить попусту время на то, чтобы глазеть на грохочущие железнодорожные составы Тех самых и на оставленные ими прямо над головой, на небе, полосы.
Только не понравилось это никому из тех, кто брызгал, срезал, отгораживался и разъезжал, и решили тогда они вытеснить всех Таких, куда подальше.
С этой самой целью тоже собрались и для начала решили дать имя этому ранее незамеченному, но однозначно нежелательному явлению. Назвав Таких «неумелыми» с маленькой буквы, в соответствии с одобренным и утвержденным, тут же активно их обрызгали. Потом неумелых напугали сторожевыми собаками у заборов, заставляя отскакивать в заданном направлении. А для острастки еще и разными мудреными правилами, гордо промелькнув прямо перед носом в оставляющих за собой неприятный черный дым и запах паровозах и грозно проскрежетав для полной убедительности прямо над головой железными птицами.
Неумелые, конечно, тоже быстренько собрались, чтобы обсудить эту провокацию. И в отместку назвали Некоторых, Других, Иных и Тех «умелыми неумельцами», и тоже с маленькой буквы. А чтобы их опять не обвинили в неумелости, решили между собой для краткости использовать лишь первую часть сложного названия. Для пущей уверенности, вернувшись туда, откуда их вытеснили, пошумели и помитинговали прямо под самым носом возмущенных Некоторых, Других, Иных и Тех, выкрикивая, что, раз они считают себя умелыми, это еще не основание обзываться на них Таких, называя их неумелыми, да еще и с маленькой буквы.
Накричавшись вдосталь, все Такие нагло развалились потом именно там, где путь был срезан и должен был пронестись по установленному заранее графику новый скоростной поезд. На все это Некоторые, Другие, Иные и Те просто развели руками. Ну, вот точно ведь неумелые, ну, что с них взять?
Поразмышляв так и гордые тем, что стали с легкой руки неумелых называться «умелыми», они решили потом просто махнуть на все это рукой. Ну их, этих неумелых, пусть живут, как не могут. Но пока они так размышляли и размахивали руками, несколько неумелых подобрались поближе к ним. Прислушались к их сдержанным возмущениям, а потом, смешавшись с толпой умелых, пробрались прямо на их собрание. И более того, не понятным ни для одного умелого каким-то неумелым, но, видимо, весьма действенным способом смогли еще и задержаться там, пообещав и умелым, и всем оставшимся на срезанном пути неумелым, что во всем разберутся на месте. Правда, с одним очень важным условием: пока они будут разбираться, неумелые обязуются не провоцировать умелых на обсуждение своих неумелых действий, не собираться ни «поблизости», ни «около», ни «вокруг» пространства, откуда их на данный момент вытеснили, а умелые в свою очередь не обзываться и не называть собрания неумелых «несанкционированными акциями».
Но ни одна из сторон не выполнила взятых обязательств. Провокации продолжались с обеих сторон и все с той же маленькой буквы. И что там потом еще случилось на самом деле, теперь уже толком никто не помнит, даже затесавшиеся в свое время к умелым неумелые, которые, как поговаривают, до сих пор все еще в чем-то разбираются и что-то там защищают.
А жить тем временем становилось все лучше и лучше и стабильно из года в год. Брызги можно было уже сканировать и направлять не только через мобильную связь, но еще на очень интересных уровнях, используя с этой целью самые разнообразные и не только электронные связи. Срезать можно было и лазерными установками, и с помощью новейших достижений компьютерной микротехнологии, и так, что невооруженным глазом было сложно определить, кто срезанный, а кто срезаемый. Умелые приспособились активно игнорировать неумелых из окон особых классов проносящихся похожих на длинную бескрылую птицу поездов, названных красивыми сокращениями, а потом скромно прятать ненужное глазу в самом низу, оставаясь невинно и бесшумно парить над облаками.
Но несмотря на то, что жизнь становилась все более совершеннее, число неумелых, как назло, прямо пропорционально и из года в год упрямо ползло вверх.
Некоторым умелым на это было глубоко наплевать, Других стало откровенно раздражать, Иных чуть-чуть огорчать, а Тех, кто носился без передышки, меняя поезда на самолеты, и наоборот, заставляло глубоко вздыхать. Надо было что-то со всем этим делать. И, побрызгав слюной, на очередной встрече нескольких наиболее умелых было решено всем снова собраться. Потом на этом самом общем собрании всех умелых, срезав что-то лишнее в правилах отгораживания, собравшиеся добавили увиденное кем-то из окон поездов и самолетных иллюминаторов и постановили, что все неумелые, раз они и так уже вместе живут, должны жить не где попало, а в строго определенном и выделенном для этой цели пространстве. Обозначив эту самую линию, все разошлись, гордые принятым и утвержденным.
На эти санкции умелых неумелые тут же ответили неорганизованным митингом, выкрикивая, что не уберутся ни за какую черту ни улицы, ни района, ни города, чего бы им это ни стоило. Чтобы предотвратить дальнейшие неорганизованные акции неумелых, срочно была создана специальная комиссия из наиболее сообразительных умелых с теми самыми представителями неумелых, которые давно уже стали завсегдатаями на их собраниях. Обе стороны подтвердили готовность к сотрудничеству, но выдвинули свои условия. Представители неумелых обязались вывести до окончательного решения всех своих неумелых за черту города, а умелые в свою очередь подтвердили готовность предоставить все необходимое для организованного вывода и создания условий в выделенном пространстве.
В помощь комиссии была тут же подключена оперативная рабочая группа быстро срезающих и ловко отгораживающихся умелых с наиболее туго соображающими неумелыми, которая тоже стала бороться, правда, в основном за терминологические точности в определении пространства неумелых. Так, например, были отклонены предложения «за линией», «за чертой», «за бугром», даже кто-то предложил такое неуместное, как «за окном». Поговаривали, что эту последнюю формулировку явно сфабриковали Те самые из умелых, которые все это время болтались на железнодорожных соединяющих путях, рассматривая все в пробегающем ритме из начищенных в соответствии с классом окон. В итоге никак не заканчивающейся работы оперативной рабочей группы было все же решено остановиться на формулировке «за кольцом». На том и порешили. Неумелые потом радовались, что в городе столько улиц с кольцевым движением, что если их будут отпихивать за их пределы по одному, то на это уйдет ровно столько времени, сколько нужно, чтобы еще пару раз выдвинуть вопрос на перерассмотрение. А умелые гордились тем, что когда утверждали само решение, то имели в виду лишь одну кольцевую линию, определяющую границы города.
Вроде, на этом все и могло бы пока задержаться на пару лет и «летий», не считая мелких провокационных выходок и уличных потасовок между умелыми и неумелыми, которые незамедлительно начались. Но несколько умелых, которых вообще-то назначили для уточнения «ических» особенностей в общении с неумелыми, чтобы не быть обвиненными в обзывании и тому подобном, зашли в своих действиях так далеко, что взяли и назло кому-то, слишком, на их взгляд, сообразительному умелому, научили выбирающихся иногда из-за обозначенной черты неумелых пользоваться отсканированными брызгами. И тогда случилось то самое, непредвиденное. Во время одной из ставших обычными потасовок у городского кольца в самом центре города на неумелых опять что-то там побрызгали. Неумелые на этот раз ответили хорошо управляемыми отсканированными брызгами. Не ожидавшие такого поворота дела и непривычные к столь уместному ответу неумелых, умелые тут уж явно погорячились и, не раздумывая, выплеснули в свою очередь что-то не совсем обговоренное и заранее предусмотренное, а скорее неприемлемое и, кажется, вообще запрещенное.
Тогда те самые неумелые, навечно застрявшие на собраниях умелых, под давлением груды неумело подобранных материалов, для и не только размышлений, срочно потребовали разобраться в содержимом выплеснутого. В ответ умелые в одночасье выделили из самых своих добровольных целую бригаду, которая тут же активно начала бороться за чистоту выделенного неумелым пространства, хотя на самом деле направлены они были в помощь рабочей группе и не просто так, а с особой исследовательской миссией в борьбе за «ическую» точность в деле приемлемого для них сосуществования со всеми не только Такими, но и Растакими, в случае выявления последних. Может, именно поэтому эти самые добровольные умелые, почувствовав особость собственной миссии, потребовали сначала выяснения истинных целей, с которыми были отсканированы самые первые, тогда еще плохо управляемые, брызги, потом полного анализа всего выплеснутого и отсканированного за последние «цать» лет, а потом отставки тех самых умелых, которые, болтаясь в поездах и скрываясь в перелетах, предложили эту дурацкую формулировку «за окном», из-за которой пришлось потом принять не менее дурацкую формулировку «за кольцом», с которой все, собственно говоря, и началось.
Но ничего хорошего и после этого не случилось. Ситуация обострилась до предела. Пошла полная неразбериха. От умелых в массовом порядке стали отделяться официально признанные «не совсем умелые», одна часть которых перебралась за кольцевую городскую линию к неумелым, а оставшаяся активно подключилась к борьбе неумелых за приемлемые формулировки, выяснение состава выплеснутого, определение химического анализа направленного, а заодно стала сносить заборы, за которыми, как оказалось, Некоторые умелые, пользуясь своими связями с Другими и Иными, все это время прятали то, что на самом деле никак нельзя было назвать умело построенным. Под общий шумок в это самое время самые дальновидные неумелые заполонили собрания оставшихся умелых и стали принимать за них решения. В конце концов все так смешалось в городе и в их собственных головах, что никто уже не знал, кто из них кем и когда был и за что боролся. И чтобы разобраться в этой общей неразберихе, какой-то самый умный то ли из умелых, то ли и, правда, из неумелых, как они теперь утверждают, предложил всем собраться и решить, кто из них будет умелым, а кто неумелым.
Так они и сделали. Собрались на самой большой площади города и на счет «раз, два, три» все, кто хотел, чтобы его считали умелым перебежали на правую сторону площади, а кто предпочитал слыть неумелым, переметнулся на левую сторону площади. И все бы, вроде, ничего. Разобрались ведь как-то. Но до сих пор умелые выискивают среди умелых неумелых, обвиняют некоторых умелых в их изначальной неумелости и систематически подставляют других, иных и тех умелых, которых за глаза считают неумелыми. А неумелые яростно доказывают, что именно они и есть те самые умелые, а не какие-нибудь там такие неумелые, которые выдают себя за некоторых умелых. И еще призывают не доверять другим и иным неумелым, потому что они на самом деле еще те умелые. И так они заняты всем этим и тем, чтобы до конца разоблачить друг друга, что совершенно забыли про всех тех, кто в ожидании обещанного решения остался «за кольцом».
|
|