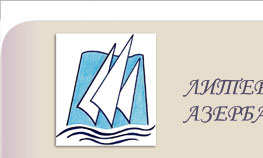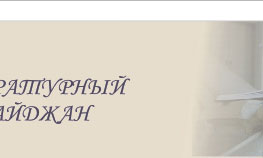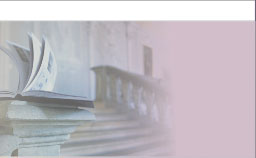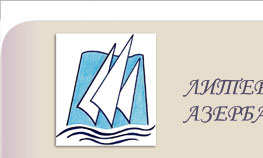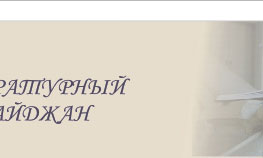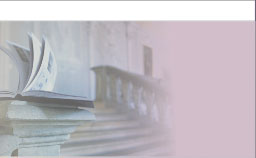|
Предисловие к книге Гулу Агсеса «Ветряная почта» («Vitrяna poşta»), изданной в переводе на украинский язык (Киев, «Факт», 2009 г.)
Человек, который все время смотрит только в одну сторону, безнадежно зашорен. Так и литература: пятнадцатилетняя ориентация на Запад почти всего, что есть в нашей словесности, досадно сузила горизонты нашего мира, нашего чувствования и мировидения. Наследуя западные образцы, наша литература как-то незаметно оторвалась от собственных проблем и наболевших вопросов, привыкала «не видеть» и не говорить о жгучих драмах повседневности. Взамен мы имеем чрезмерно раздутую феминистичную проблематику, «смелые» введения в литературные тексты эротики и плотскости, безоглядные состязания в патриотизме, которые незаметно перешли грань, за которой высокие фразы стали общим местом, своего рода эрозией патриотизма.
В этом смысле возвращение к литературному диалогу с Востоком трудно переоценить. Ведь, кроме расширения кругозора, знакомство с азербайджанской литературой в целом и с поэтом Гулу Агсесом в частности, представляет еще иную, отличную от вестернизированной, картину мировидения и мироустройства.
К великому нашему сожалению, после смерти Валерия Марченко, осужденного советской репрессивной системой за «украинский и азербайджанский национализм», мы практически утратили интерес к тюркоязычным литературам, да и специалисты, способные адекватно переводить произведения азербайджанских или турецких авторов, постепенно сникли. Будем откровенны: сегодня все переводы из этих литератур осуществляются преимущественно с помощью русского подстрочника, что не всегда позволяет адекватно воссоздать образ, передать смысл строки и всего стихотворения.
Но все же лучше так, чем никак. Ибо за терниями и шипами переводческих проблем проступает другая традиция, раскрывая мудрость народа, немало представителей которого издавна живут среди нас, привнося свой неповторимый колорит в новую и многоголосую культуру украинского государства.
Честно признаюсь: мое первое знакомство с азербайджанской литературой совершенно неожиданно выявило немало общих черт на базовом, мировосприятийном уровне.
Речь прежде всего, о трагичности ощущения мира, которую азербайджанская литература преодолевает лучше нас благодаря коранической традиции, сквозящей чуть ли не в каждой строке у их писателей. Что касается этого сверхсложного (хотя и не совсем схожего) геополитического положения Азербайджана и Украины, непростого поиска своего места в общечеловеческом культурном пространстве, – место культур, чей голос часто терялся на фоне хорошо поставленных соседских, и, может быть, еще больше болезненного поиска самого себя самим человеком в столь непростом и часто безличинно-жестоком мире, навязанном нам западной цивилизацией (может, мы так неудачно пользуемся ее обретениями), то выявляется, что у нас очень много общих цивилизационных точек.
В каком-то смысле сегодня Гулу Агсес значительно актуальнее для украинцев, нежели какой-либо хороший поэт из относительно благополучной Европы или Америки ибо он пишет о проблемах, которые переживает Азербайджан и которые так же актуальны и болезненны для Украины. Другое дело, что у Гулу Агсеса находим и знакомые нам из западной традиции культурные коды и веяния литературных мод (Азербайджан, как и мы сами, в культурном отношении круто «обращен» на Запад). Правда, эти заимствования вписаны где-то в иной культурный опыт и традицию. Только эти, иные, отличные от наших, интерпретации особенно интересны.
Скажу больше – азербайджанский поэт Гулу Агсес интригует прежде всего ими: знаки обыденных, часто трагичных ситуаций у него переправлены в некий поэтический текст, который не всегда удается адекватно воссоздать переводчикам, тем более с помощью русского подстрочника (в таких случаях переводчики стремились максимально сохранить дух и смысл оригинала, даже при существенных потерях в форме).
Наиболее оригинальной чертой Агсеса-поэта является умение показать проблему через деталь, показать так, что деталь сливается с деталью иного уровня, явление – с явлением, проблема – с проблемою.
На улице зной.
Бежишь домой.
А дома – пекло.
Окна настежь распахиваешь.
Жара снаружи
остуживает
пекло очага.
Такова, примерно,
Любовь семейная.
Поэт размывает грани: бегство от душного дня в желанную прохладу дома не спасает, ведь дом еще больше «разжарен» пылающим полуденным солнцем, – тогда ты открываешь квартирку, хотя и сквозняк не столько освежает, сколько обновляет воздух. Этот образ плавно и органично переносится на семейную жизнь, на чувствования, приглушенные и заниженные в браке до обыденности, которую можно освежить лишь ветерком извне, житейским «сквозняком». Собственно говоря, в этом умении соединить банальные якобы подробности в большую картину, которая придает новый смысл всему привычному и побуждает иначе взглянуть на банальное, – особая, так сказать, фирменная черта поэзии Гулу Агсеса.
Все сопряжено со всем. Жизнь возможна только во всеохватном неудержимом течении.
Так, инвалид («Инвалид войны»), вернувшийся (все-таки выжил!) домой без ног, познает житейский крах и утрачивает человеческую честь, так как не способен обеспечить семье достойную жизнь, а все те, чью честь и достоинство (как и честь Родины) он защищал на войне, жестоко пользуются его немощностью. Картинка. Да, картинка. Но картинка, которая заставляет иначе взглянуть на вещи, которые, к сожалению, и в Азербайджане, и в Украине стали привычными…
Чтобы лучше понять тему войны, украинскому читателю надо знать, что в Азербайджане до сих пор кровоточат раны Карабаха как потерянной земли. Жестокая война с армянами и российскими войсками, которые до сих пор контролируют территорию Карабаха, – это не только утрата корней и малой родины для сотен тысяч людей, это еще и жестокие шрамы войны, на которую шли по зову сердца и совести, а вернулись опаленными, зачастую – изверившимися и покалеченными…
Моральная ответственность, о которой во многих своих стихах по-разному говорит Гулу Агсес, настигает нас разными путями, но настигает всегда.
Украину, в отличие от Азербайджана, война не опалила. Но моральная черствость ранит так больно, что кажется – море вышло из берегов («Я прошу тебя…»), унялось бы оно – не мучило бы человека, который больше представляется пленником своевольной стихии…
…след любви…
…след человечности…
…след ответственности…
«ВСЕ СОЕДИНЕНО СО ВСЕМ»
С братской Украины пришла добрая весть, – в переводе украинских коллег издан сборник стихов азербайджанского поэта Гулу Агсеса с предисловием Дмитро Стуса, нашего верного друга и единомышленника. Разговор о киевской книге Агсеса, о его творчестве и переводах – еще впереди. Пока, по горячим следам, хочу сказать несколько слов. Отрадно, что оживают литературные мосты между нашими народами, связанными целыми пластами достославной, непростой исторической памяти и сегодняшними общими, многотрудными заботами суверенной жизни в сложном геополитическом мире. Об этой общности устремлений, болевых точек хорошо и точно пишет Дмитро Стус в предисловии к переводной книге нашего поэта (перевод предисловия читатели «Литературного Азербайджана» могут прочитать в этом номере). Этому событию предшествовало другое литературное дело – в Баку вышла книга стихов отца Дмитро, выдающегося украинского поэта Василя Стуса, на азербайджанском и русском языках («На Колыме запахло чабрецом»), – переводы выполнили Салим Бабуллаоглу и автор этих строк.
Книгу В. Стуса помог издать Благотворительный фонд азербайджанско-украинской дружбы и глава Фонда предпринимателей Ильгар Аббасов, живущий в Украине. Кстати, поблагодарим и нашего «украинского» соотечественника Бурзу Алиева, с чьей помощью издана книга Гулу Агсеса «Ветряная почта». Действительно, «все соединено со всем», – как пишет Дмитро Стус. Напомню, что Дмитро издает журнал «Киевская Русь», один из номеров которого был посвящен азербайджанским авторам. На таких подвижниках и держатся духовные мосты. Дмитро пишет, что в последние десятилетия эти связи ослабли, и даже переводчики-специалисты по тюркоязычным литературам «сникли». Пора, значит, воспрянуть и браться за дело. Нам потенциала не занимать. Там, в Киеве, есть Валентин Ципко, переведший «Буйную Куру» Исмаила Шихлы. Здесь у нас – лауреат премии имени Максима Рыльского поэт Аббас Абдулла, с оригинала озвучивший на азербайджанском языке классиков и современных мастеров украинского художественного слова. С надеждой мы смотрим на украинский сектор в Бакинском славянском университете – там растет хорошая смена. «Чувство семьи единой», о котором писал незабвенный Павло Тычина, неистребимо, несмотря на все преходящие поветрия эпохи и наши домашние заботы.
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ
|
|