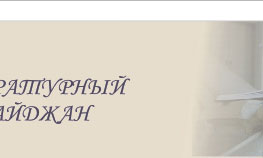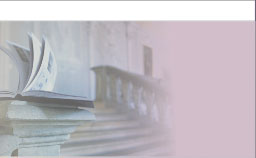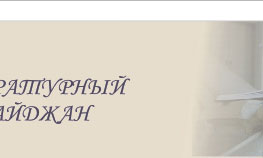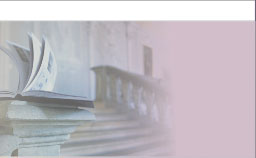|
Город Багдад завершал еще один день своей долгой и многопревратной истории. Осеннее солнце медленно садилось за горизонт. В тесных и утлых двориках жавшихся друг к другу домов густел сумрак: пустели гомонливые базары и дукяны, с минаретов возносился протяжный речитатив азана, и мечети заполняли правоверные…
Юноша лет двадцати с лучистыми и чистыми, как это багдадское вечернее небо, черными глазищами, неспешно шагал в сторону заката, думая свою думу. Лучи закатного солнца, иногда падавшие на его лицо, являвшее сочетание мягкой юношеской свежести и отрешенности, побуждали его щуриться, он прикрывался ладонью и продолжал свой путь…
…Он приблизился к особняку, спрятавшемуся за высокой кирпичной стеной и утопавшему в зелени, подступил к большой входной двери. Стороннему человеку могло показаться, судя по колеблющимся движениям юноши, что он никогда не переступал через порог этого дома. Но на самом деле эти места, эта дверь «алагапы» были хорошо знакомы ему. А причиной колебания было неизъяснимое волнение, неожиданно охватившее его.
Постояв перед дверью, он перевел дух. Поднял голову, огляделся, задержал взгляд на тонких ветвях финиковой пальмы, ластившейся листочками к верхней кромке стены. Волнение не унималось. Собравшись с духом, решительно взялся за железную колотушку, постучал в дощатую плотную створку.
Со двора, погруженного в глубокое нерушимое, казавшееся мистическим безмолвие, не донеслось ни звука. Он уставился на колотушку, на добротно сработанную дверь, помедлил, и поймал себя на мысли, что всей этой заминкой он хочет оттянуть встречу со старым звездочетом. Будто эти медленно протекающие минуты могли подсказать ему некую тайну предстоящей встречи, разгадку ее цели.
Ведь и вправду, на что он понадобился старому наставнику Шейху Амину, преподающему астрологию в медресе? Хотя сей прекрасный наставник время от времени и приглашал к себе в дом питомцев для штудий, но не по одиночке. Причем заранее уведомлял, о чем, на какую тему будет вести с ними беседу. А вот теперь старик изменил правилу, – неожиданно пригласил в гости одного только Мохаммеда, сына Сулейман-киши, всю жизнь проработавшего сарбаном – вожатым караванов. Как ни неожиданно и необычно было это приглашение, оно задело сокровенную струнку в сердце питомца, и к волнению примешивались и невнятная радость, и тайная гордость: ведь как-никак Шейх Амин слыл одним из почтеннейших и знаменитых улемов не только в медресе, но и во всем Багдаде. И удостоиться внимания и особой аудиенции у такого человека для питомцев было большой честью.
Тогда отчего же в глубине души копошилось это глухое непонятное смятение, это тревожное предчувствие? Может быть, он допустил какой-то проступок, совершил нечто предосудительное, что могло бы навлечь недовольство, порицание и укор наставника? Мохаммед искал и не находил такого повода в своем поведении.
Пожалуй, только одно обстоятельство… Может быть, усмотрели нечто зазорное и крамольное в его суждениях, которые он высказывал в нескончаемых философских спорах с соучениками в стенах медресе? Ведь какие жаркие споры были! Какие страсти разгорались! Особенно вокруг таких религиозно-философских премудростей, как мир земной и мир потусторонний, сунниты и шииты, плоть и дух, человек и Аллах, гедонизм и аскеза, Всевышний и вселенная, и тому подобные материи, такие различные и полярно противоположные мнения сталкивались, сшибались, что наиболее горячие головы чуть ли не в драку лезли, доходя до обвинений в ереси и богохульстве. Может, во время этих дебатов и словопрений Мохаммед позволил себе какое-то непотребство?
Он вспомнил жаркий спор, произошедший недавно. Сперва «копья скрестили» его друзья Абуталиб ибн Мюльджам и Керим ибн Хазиран. Учителя и однокашники обращались к ним, простоты ради, как к ибн Мюльджаму и Хазирану.
Мохаммед сблизился с ними с первого года обучения, знакомство переросло в дружбу, все трое были, как говорится, не разлей вода, вместе грызли гранит науки, ходили на прогулки, заглядывали на базары и в дукяны, делили хлеб-соль, радости и печали, думы и чаяния. Их сближала еще одна, но пламенная страсть – любовь к поэзии, к творчеству. Конечно, случались между ними и расхождения во мнениях, споры и размолвки по тем или иным явлениям жизни и природы. Но все эти разногласия были вызваны жаждой узнавания, постижения истины, и вскоре завершались примирением; друзья еще больше прикипали сердцем друг к другу. Но последний спор принял совершенно иной оборот, и обнажил раскол между друзьями в умственных понятиях.
…В тот день, когда в медресе завершались занятия, ибн Мюльджам, расставаясь с товарищами, сообщил с веселой улыбкой:
– Сегодня меня не ждите. Один из близких друзей отца пригласил нас в гости.
Свечерело, он так и не появился. На закате дня, когда учащиеся по одному или парами стали подходить к бассейну во дворе медресе и, закатав рукава, черпать горстями воду и совершать «дастамаз», омывая лицо, ибн Мюльджад еще не вернулся. Учащиеся стали совершать намаз, – кто в своей худжре – келье, кто на циновках, расстеленных под террасой. В медресе уделялось строгое внимание соблюдению религиозных отправлений и совершению намаза – важного требования мусульманской веры.
Мохаммед и Хазиран после вечерней молитвы ушли в свои худжры и занялись чтением. Хазиран любил стихи Абуль-ала Муаррири, Саади, Хайяма. Мохаммед же обожал газели Хафиза, рубаи и философские стихи Насими, а также народные баяты и ашугские «гошма». Теперь он взялся за чтение «дивана» Насими, а Хазиран пробегал глазами рубаи Хайяма; но внимание обоих отвлекали мысли об отсутствующем друге, и они то и дело поглядывали на дверь. И, едва услышав шаги, Мохаммед вложил закладку между страницами и закрыл книгу; не успел подняться, как дверь распахнулась, и вошел ибн Мюльджам, – бледное лицо, насупленное, маленькие круглые глазенки туманятся.
Хазиран, также заметивший его неважное состояние, отставил рубаййат Хайяма и начал издалека;
– Ну как, дружище, прошло гостевание ваше?
Оба знали, что ибн Мюльджад – юноша запальчивый, азартный, любитель потолковать, порассуждать на любую тему. Но не придавали значения этой слабинке, – он мог распалиться и вскоре поостыть, подобреть и стать покладистым. Вот и сейчас взвился, вспыхнул, будто одного намека было достаточно.
– Лучше бы не ходить мне на такое пиршество, будь оно неладно! Все приятные речи, веселье, музыка вышли боком…все обернулось отравой из-за этого безбожника! Клянусь Аллахом, я чуть было глотку ему не перервал, как цыпленку! Еле сдержался!
– Ладно, не кипятись! – Мохаммед с присущей ему рассудительностью попытался успокоить друга. – Скажи толком, что стряслось, кто тебе досадил?
– А кому же еще быть! Этот старый хрыч Ахмед Хилали!
При упоминании этого имени Мохаммед нахмурился. Уловив его реакцию, встревожился и Хазиран, знавший о почтительном отношении Мохаммеда к старому книготорговцу Хилали. Опережая Мохаммеда, он пристыдил друга:
– Да он тебе в отцы годится, не чести старика! Выкладывай, чем же он провинился?
Осекшись от укора, ибн Мюльджам чуть сбавил тон, но все еще не уняв злости, проговорил:
– Я попросил у него книгу. Такую, чтоб была старинная, редкостная. Он обещал сегодня к исходу застолья пожаловать туда. После «салам-келама» преподнес хозяину книгу, а мне говорит: «Племянничек, я подыскал для тебя такую книгу, которая вряд ли еще кому в руки попадет… Не книга, а сокровищница, кладезь, просвещающий разум…»
Я на радостях выхватил книгу, раскрыл, пробежал глазами…и меня словно кипятком ошпарили…
Мохаммед усмехнулся, зная, что ибн Мюльджам не в ладах с Аристотелем и Авиценной, никак не может «врубиться» в их премудрости и потому не жалует этих титанов мысли. Теперь, как бы позабыв свое возмущение сгоряча сказанными словами в адрес почтенного Хилали, он не преминул подначить незадачливого приятеля:
– Никак, это были «Законы» ибн Сины или книга Арастуна?1
У ибн Мюльджама перекосилось лицо, гневно сверкнули глаза:
– Да нет! Книга этого богохульника, нечестивого Мансура Халладжа2. Того самого, которого по велению шариата вздернули на виселице!
Воцарилась тягостная тишина. Оба друга воззрились в помрачневшее, перекошенное лицо ибн Мюльджама. Будто читали труднопостижимую книгу. Оба были едины в своем мнении.
Мохаммед нарушил молчание:
– Как бы то ни было, прошли века, а Мансур Халладж не забыт. В памяти народной он остался непреклонным в любви своей ашигом, снискавшим славу мучеником, во имя убеждений своих принявшим смерть… И не зря поэты изображают его именно таким. Разве ты не видишь в самой этой прискорбной истории глубокий урок человеческой жизни? Философию, достойную того, чтобы поразмыслить?
– Я пока что не понимаю, о чем ты говоришь? Не могу толком уразуметь твои суждения! – непримиримо и вызывающе, как антагонист, захорохорился ибн Мюльджам, своим тоном огорошив обоих и омрачив до сих пор существовавший между ними дух товарищества. – По правде говоря, я диву даюсь: откуда в вас такое благоговение перед безбожником, окончившим свою жизнь в петле?
Сколь бы ни задели Мохаммеда за живое эти слова и тон ибн Мюльджама, он сдержался и попытался говорить спокойно:
– Знаешь ли, это очень тонкий и болезненный вопрос. Далеко не простой и однозначный, как представляется многим… Если человек, преодолев леность мысли, вдумается поглубже в подобные бесчисленные судьбы в истории человечества, рассмотрит историю религий и верований, то увидит, что множество этих случаев свидетельствуют, что были правы не убивавшие, а убиенные… Они, убиенные, не отрекались от своих убеждений, указующих людям более верный путь, не предавали правду и справедливость ни за какие блага…
– И правда, и справедливость – в нашей священной вере! И нет роду человеческому иного правого пути, нежели стезя, указанная благословенным пророком Мохаммедом!
Ибн Мюльджам распалялся, и его возбужденные тирады привлекли внимание прогуливавшихся во дворе учащихся, которые вошли к ним. При виде их ибн Мюльджам воодушевился еще пуще: – Те, кто вынес смертный приговор Мансуру Халладжу, были верными служителями нашей веры!
– Интересный разговор, – сказал кто-то из вошедших учеников, – но, положа руку на сердце, я бы никогда не стал бы вешать такого поэта, такого пламенного златоуста! Ну, запер бы в закуток укромный, не выпускал бы из дому. Убивать человека, да притом такого устада слова, не дело!
Реплика вошедшего направила мысли Мохаммеда в новое русло.
– Видишь, ибн Мюльджам, – сказал он. – Чрезмерная рьяность чревата бедой, дух холопства родственен с преступностью, открывает путь к попранию личности, совести… История являет два пошиба приверженцев каждой религии, каждого великого идеала: одни воистину веруют и следуют им, другие обращают их в средство торга, наживы, завоевания чинов!... Одни несут веру в сердце своем, другие облачаются в нее, как в платье, и на каждом углу бьют себя в грудь: «Вот, глядите, как я предан вере своей!». Прискорбно, что зачастую такие и преуспевают в жизни. Ибо, если первым истая вера и чистая совесть не позволяет прибегать ко лжи, козням, к бесчестным деяниям, то вторые, не веруя, не имея понятия о совести, о морали, не гнушаются ни в каких непотребных средствах…
– Как и те, что разжигают рознь между суннитами и шиитами, – Хазиран поддержал слова Мохаммеда. – Сколько у нас на глазах ежедневно творится злодейств, льется кровь, гибнут безвинные люди… Почему? Потому что иранские шахи твердят, что истинные приверженцы Аллаха, настоящие мусульмане – это шииты, убивайте суннитов! А османские правители возглашают: нет, истинные мусульмане – это сунниты, бейте шиитов! И кто поддерживает тех и других именем Аллаха и Корана? Разве не некоторые чалмоносцы, которым присягаешь и веришь ты, ибн Мюльджам?
Ибн Мюльджам хотя и молчал, но было ясно, что он никак не согласен с товарищами. Соученики уже, поменяв русло разговора, перешли к непрекращающимся распрям и войнам между шиитами и суннитами, вспоминая услышанное и увиденное с горечью и болью, сокрушаясь о том, что они бессильны внести какую-то примиряющую лепту в это великое бедствие эпохи…
…Мохаммед, возвращаясь к этому спору, не видел ничего крамольного в своих высказываниях и суждениях, считая себя совершенно правым. Он был убежден, что никто, в ком чистое сердце и любовь к людям, не может рассуждать иначе. Но, увы, люди замешены из разного теста. Среди них можно сыскать всякие «масти». Мохаммед за свою короткую жизнь успел понаблюдать учеников, которые во время споров говорят одно, а думают другое, на виду, на миру соглашаются с кем-то, а за глаза перемывают ему косточки… Может быть, Аллах знает, нашелся такой оборотень, который, обвиняя его в наших-то грехах, донес до учителя… Может быть…
Эти «может быть» в его сознании сменяли друг друга.
Он слышал про то, что старый ученый-астролог ведет с отдельными учениками и приватные беседы о сотворении мира, о расположении звезд и судьбе, стремясь разговорить подопечных и выявить образ их мыслей. Возможно, его ждала теперь такая беседа. Старый и любимый наставник увлечет его разговором в далекие, голубые небеса, в запредельные миры, поведет в странствие по звездным пространствам, станет его спутником на путях к постижению таинственного света бесконечных миров, небесных тел, на путях, которые недосягаемы и для него самого…
Да, Мохаммед часто устремлялся мыслями к далеким синим безднам. Он не боялся странствовать по дорогам, на которых всю жизнь витало воображение старого звездочета. Но он опасался, как бы волнение, охватившее его, не спутало его мысли, не помешало ему изложить свои суждения так, как хотелось бы наставнику; не желал бы, чтобы его суждения произвели неблагоприятное впечатление на устада. Но, словно устав от этих противоречивых дум, его мозг подвигнул на решительное действие, и он вновь постучался колотушкой в дверь.
И тут же донесся со двора густой голос:
– Иду, иду, брат мой …
Голос человека, если и не видишь лица, создает определенное представление о его нраве, о том, суров он или мягкосердечен, крут или добр. И в отклике «иду, иду…» сквозила удивительная, ласковая теплинка. И Мохаммеду виделась улыбка на лице старца. И действительно, из-за отпертой двери предстал улыбающийся хозяин в длинной рубахе с закатанными рукавами, белые сединки, усеявшие лицо, как первый снег, запорошивший горные склоны, усиливали свечение доброй улыбки. Белые поредевшие волосы с непокрытой головы ниспадали до ушей и затылка; густой зычный голос диссонировал со старческим обликом; его черные глаза светились по-детски непосредственной радостью.
Перед Мохаммедом стоял человек, повидавший все превратности и лики мира, но сохранивший сердце от вторжения скверны суеты, недобрых помыслов и чувств, человек, любивший жизнь.
Юноша почтительно поздоровался и, когда хотел представиться, старик прервал его:
– Не утруждай себя, сын мой, я ведь хорошо знаю тебя. Ты питомец медресе Мохаммед. И, говорят, грешишь стихами…кое-какие твои строки, слова дошли до моих ушей. Да и отца твоего, сарбана Сулеймана, я знавал. Да успокоит Аллах его душу. Добрый был человек, праведным хлебом жил. Мы ведь с ним столько верблюжьих караванов по чахлым пустыням провели…Ну, ладно, что тебя томить разговорами. Пойдем со мной. – Он закрыл дверь, задвинул щеколду. Взял за черенок лопату, прислоненную к стене, водрузил на плечо и зашагал по аллейке в глубь подворья…
Сердце Мохаммеда переполняла радость, смешанная с грустью: сколь неожиданно было узнать, что этот человек разделял с его родным отцом тяготы долгих караванных странствий, столь же приятно было встретиться с ним и услышать добрые слова от него о родном человеке…
* * *
Хотя в густой темноте осенней ночи Мохаммед ничего не различал, он не мог оторвать взора от черных силуэтов финиковых и апельсиновых деревьев: ведь Лала каждый раз появлялась с той стороны. И сейчас, светившиеся желтоватым светом, окна кирпичного особняка за деревьями словно оповещали его: Лала еще не легла спать, вот-вот она выйдет провожать тебя. Но ее все не было. Он запасся терпением, не сводя взора с дома, где жили женщины. Сейчас этот дом был для него свят, как Кааба, манящ, как неразгаданная тайна. Казалось, каждый кирпич его был согрет дыханием Лалы. И свет, брезживший в окнах, чудился мерцанием далеких черных глаз Лалы. Погодя все окна погасли и погрузились во тьму. За исключением среднего, из которого сочился желтый свет. « Наверно, это Лала, выжидает удобный момент, чтобы выскользнуть незаметно», – подумал он.
С этим предчувствием, прислонившись к стволу высокой финиковой пальмы, Мохаммед окунулся в безмолвие ночи, безмятежной, магической, как сама вечность.
Но город Багдад, живописуемый в сказках Востока, своей тяжелой дремой подчеркивал это безмолвие и придавал ему жуткий мистический оттенок. И низкое нависшее, хрустально веющее мерцающее небо в мириадах перемигивающихся звезд не могло рассеять эту неизъяснимую жуть.
Мохаммеду казалось, что этот страх исходит из чрева самого мрака, из духа суеты и смут века. И под его тяжестью все человеки и все сущие твари приникают к земле и трепещут в тоскливой жажде – жажде хоть малой отрады и счастья!
Непрестанные и беспощадные бури века измучили и извели всех. Все жаждали одного – хоть ненадолго – тихой и мирной жизни. И больше ничего. Будто это и было великим счастьем! Да, и люди, и земля извелись от неутихающих распрей и войн между Османской державой и Персией, от метаний то под владычество одних, то под господство других, опостылели им «игры рока», как выражались улемы и философы. Багдад как бы затаил дыхание, страшась превратностей судьбы, замер, оцепенел перед мучительной неизвестностью грядущего. Это было тягостное безмолвие, и багдадская ночь была чревата неизвестным бременем. Никто не знал, чем она разрешится поутру – гадом ли с ангельским ликом, зверем ли хищным и диким…
Повсеместно, все сущее объяла темнота, и во всем таился страх: страх перед будущим, сулящим неведомые, неотвратимые, неисповедимые напасти! Все чувствовали, что это будущее нагрянет не средь бела дня, а темной ночью, – ночь явится мостом будущего. И оно ворвется в город на сочащихся кровью мечах полчищ султана или шаха… И всем хотелось, чтобы это будущее настало поскорее, пораньше, ибо тревожное ожидание извело людей. Ведь ожидание беды и смерти пострашнее, чем их лицезреть! При мысли об этом неведомом будущем и в думы Мохаммеда вторгалась смута, и он, отрешаясь от поэтических наваждений, начинал размышлять, как философ. И говорил про себя: «Нелепо устроен мир! Хорошее и плохое, добро и зло смешались, будто расплылись, растворились в огнище горящего фисташкового дерева, замутили все и вся… А как же быть? Что делать?
Не так уж просто было найти ответ. Мохаммед знал, что в этом темном, несуразном мире есть одно светлое, чистое и незамутненное создание – Лала! Господь сотворил ее из своих божественных щедрот. Прах, которого касались ее стопы, оживал и одушевлялся травой и цветами. Дыханьем ее благоухают сады и цветники, светоносные, как безоблачная лазурь, очи ее даруют отраду сердцам и зажигают улыбкой хмурые лица, отвратившиеся от жизни.
И стоило на миг увидеть это божественное создание, услышать ее голос, заглянуть в ее очи, как забывались все невзгоды и горести на свете.
Но ее нет как нет. И нельзя было столько времени маячить в чужом саду в ночную пору. Пересиливая себя, он повернулся к воротам, сделал несколько шагов. И в это время его остановил тихий девичий оклик:
– Мохаммед… Иди за мной…
Как бы ласково и доверительно ни звучал этот голос, он не был голосом Лалы.
Он, растерявшись на миг, всмотрелся в темноту, хотел было спросить у незнакомки что-то, но та опередила его вопрос.
– Я дочь садовника… Захра… Не удивляйся… И не мешкай, иди за мной, в нашем доме ждут тебя…
Голос у девушки дрожал. Наверно, волновалась от порученной ей рискованной миссии – быть посыльной между ним и Лалой. Но Мохаммед уловил в ее голосе нечто большее, иное, чем страх, – теплое участие, сочувствие, и, сразу проникшись доверием, последовал за ней.
– Будь осторожнее здесь, чуть нагнись, тут колючие кусты сплелись! Пригни голову! – властно предостерегала она, будто сопровождала ребенка, и он послушно повиновался ей.
По мере углубления в сад тьма густела. Он не разбирал дороги, стремясь поспевать за Захрой, шедшей легкими беззвучными шагами, как серна.
Там, где клубилась кромешная темень, благоухавшая розами, внезапно в правое плечо больно ударило что-то твердое, тугое. Остановившись на миг, он поелозил рукой во тьме и нащупал остро изогнувшийся сук гранатового дерева. Пригнувшись, прошел дальше, стараясь не выказывать боли. Но шустро ориентировавшаяся в темноте Захра по его заминке догадалась об ушибе.
– Перейму печали твои! – посочувствовала она. – Так недолго и лицо расцарапать. – Подай-ка руку мне!
Ее простецкое дружелюбное обращение окатило сердце теплой волной.
– Пустяки, не беспокойся… А ты прямо порхаешь…
– Привычка! – Захра протянула руку. – Впереди ни зги не видать. Подай-ка руку. Почувствовав, что он колеблется, она прыснула, как озорница, подначила:
– Или боишься! Не бойся. Не грех держаться за проводницу.
Он почувствовал теплоту ее маленькой мягкой ручки. Пригибаясь и лавируя, прошли еще несколько шагов. Оба молчали. Где-то вблизи зажурчал поток.
– Берегись, тут арык! – предупредила Захра, задержав шаг, отняла руку. – Погоди, сперва перейду я, а ты – следом.
Сказала и – скок! – перемахнула через арык. По звуку воды он прикинул, что арык не так уж широк и, сделав широкий шаг, перешагнул через него.
Она снова повела его за руку, шагая рядом, и, как перед давним другом, простодушно разоткровенничалась:
– Дай Аллах счастья Лале-баджи! Она влюбилась в тебя, как Лейли в Меджнуна. И газели твои наизусть знает. Ты так красиво пишешь… и мне тоже нравится… Я и не слышала на нашем языке такие вещи…
– Ты откуда родом? – Мохаммед, услышав лестные слова, хотел переменить тему.
– Из Тебриза. Когда мне было пять лет от роду, отец приехал с нами в Кербелу, на поклонение, а после перебрался в Багдад. Но ты меня не сбивай, не заговаривай зубы… Лучше поговорим о стихах… Интересно, что нового ты написал… для Лалы?
– Вот, возьми, завтра прочтешь, – Мохаммед достал из пазушного кармана сложенный листок и передал ей.
Захра взяла и спрятала бумагу за вырезом платья.
– Стихи, что ты передал в прошлый раз, Лала-баджи и мне зачитала. Мы обе назубок запомнили. Хочешь, прочту?
И, не дожидаясь ответа, стала удивительно проникновенно, нараспев читать газель.
Ее голос теперь звучал еще притягательнее и мелодичнее, как неземная песнь, доносящаяся с далеких мерцающих звезд:
О спасительной встрече навек разлученных спроси,
Об усладе струй хладных ты жаждой сожженных спроси,
Ты других не проси тайну сладостных губ приоткрыть,
Об их таинстве ты посвященных спроси.
Разве черствой душе понять исходящих слезой?
Ты о звездных мирах страдальцев бессонных спроси.
От тоски по тебе я сгорел, как свеча, обо мне
В ночь разлуки виновницу грез обреченных спроси.
Хотя некоторые бейты газели Захра то ли сознательно пропускала, то ли подзабыла, ее певучий голос доставил Мохаммеду безмерную радость. Удивительно, что этот голос был чист, прозрачен и сладостен, как голос Лалы.
Девушка вдруг тихо засмеялась.
– Знаешь, и Лала пытается писать, сочинять в духе твоих газелей… Она и прежде мечтала слагать стихи… Но не решалась…ведь это дело мудреное, что ни говори… Но, прочитав твои стихи, вроде, осмелела…
– И что же? Написала? – невольно заинтересовался Мохаммед.
Она отозвалась с сожалением:
– Нет, говорит, не получается. Поначиркала, говорит, и порвала, бросила. Наверно, тяжелая штука, да? Отец мой считает, что поэзия – дар Аллаха… если бы, говорит, всякий бумагомарака метил в поэты, то на свете развелось бы их море!..
Ее простодушные слова удивили его и всколыхнули наболевшее. « Кабы у питомцев медресе было такое понятие, как у садовника… Тогда бы Гюлистан стиха не заполонила сорная трава!..» – подумал он, но не успел поделиться с ней этой мыслью; они уже вышли из сада и оказались у приземистой хибары, притулившейся к глинобитной высокой стене.
– Ну вот, постой тут, жди! Я схожу, позову Лалу… С тех пор, как она открыла мне свою тайну, я молюсь за вас, чтоб Господь сподобил милостью…
– Аминь! – вздохнул он, пожав ей руку.
Из хибары вдруг донесся громкий храп. Мохаммед обеспокоенно глянул в ту сторону. Захра тихо хихикнула.
– Это отец... Не тревожься... Он тебя обожает... Я передала ему твою газель… И он вызубрил, напевает себе…
Все новые и новые волны радостных чувств охватывали Мохаммеда, и он не знал, как отблагодарить эту чистосердечную, добрую и самоотверженную девушку. Как она была прекрасна в своем бескорыстном и благородном желании послужить чужому счастью!
Такие создания достойны поклонения! Достойны вечного счастья!
Но когда его взору представились тысячи и тысячи таких же простолюдинок, бьющихся в жестких тисках нужды, терпящих унижения и побои от грубых мужланов, у него защемило сердце.
– Ты славная, Захра, какая ты славная девушка! – вырвалось у него, и он непроизвольно погладил ее по голове, прикрытой платком.
Она неожиданно расчувствовалась, и в голосе ее прозвучала, сквозь радостные нотки, затаенная печаль.
– Не хвали меня, а то я не выдержу… расплачусь…
И побежала, истаяв в темноте.
Гигантский вяз осенял приземистую лачугу, широко раскинув ветви, будто оберегая утлое жилище от внезапного ненастья, будто мог оградить его от крутых зимних ветров.
Рядом с деревом он различил чернеющий пень. Этот обрубок тоже когда-то был кряжистым, матерым стволом, деревом, а теперь над ним гулял топор.
Он взялся за ветку вяза, поставил ногу на пень, задумался. «Может, это и есть бессмертие… вечность?...Живое дерево дарует тень, прохладу, укрывает от палящего солнца, дождя, служит людям, пока есть силы. И когда они истощаются, оно сохнет, превращается в пень… Нет, и умирая, оно служит людям, его срубают, раскалывают на дрова, сжигают в очагах, и оно дарит тепло. Обугливается, сгорает, остается зола, смешиваясь с землей, и питает почву, и на ней восходят новые побеги, молодая поросль…
Да, вот она, вечность! Каждое движение, трепет жизни, каждый удар сердца знаменует зарождение нового. Это и есть бессмертие!»
Окрест ни звука, ни шороха. Бесконечная тишина словно нашептывала: «Да, есть бессмертие!» Высоко в темном бархатном небе сквозь застывшие клочья облаков выглядывали улыбчивые и скромные звезды, и они мерцали победительно и неугасимо, посылая неземной свет на юдоль скорбей, где грешные и неприкаянные люди искали пути-дороги к вожделенному счастью, и звезды лучились и внушали: «Есть, есть бессмертие...»
И вот впереди, между деревьями, забрезжил свет. Ему показалось, что с небес сошла на землю одна из звезд, и приближается к нему, светясь в кромешной мгле.
Вот она, близко, вот дошла до него… И заговорила ласковым дрожащим голосом, и простерла руку в нежном радостном порыве:
– Как мне перетерпеть эту разлуку, Мохаммед! Будто целый век не видела тебя! Без тебя весь мир кажется темницей. Даже отчий кров… Без тебя каждый миг тянется как вечность…
Он взял за руку эту звезду, сошедшую с небес, звезду вечности, охваченный упоительным восторгом, бережно усадил на широкий пень и, наклонившись, зашептал жаркие строки:
Вожделеть о свидании с тобой, скажи, кто не станет?
Восхищаться твоей красотой, скажи, кто не станет?
Одержимо любя, грезить только одной
Милой родинкой той, скажи, кто не станет?
О, свеча, по ночам заливаться горючей слезой,
Как и я, с опаленной душой, скажи, кто не станет?
Поклоняется идолам чинский1 народ, не во грех,
Поклоняться тебе день-деньской, скажи, кто не станет?
По мере того, как Мохаммед пылко и печально читал газель, Лала приникала к нему и вдруг зашлась плачем… Убрав руку из руки его, обхватила пылающее лицо обеими ладонями.
– Что с тобой, Лала? Почему ты плачешь, вся дрожишь?! – заволновался Мохаммед.
– Как же не плакать… Знал бы… каково мне… Черные тучи нависли надо мной… И рассеять их никому не под силу… никому!…
– Ну, отчего ты так отчаиваешься? Почему? – нетерпеливо спросил Мохаммед, и она, пытаясь взять себя в руки, тихо поведала:
– Вчера позвала мать, завела разговор о тебе. «До меня доходят кое-какие слухи, – говорит. – Верны ли они?» И я не утаила. Сказала все, что на сердце… Ведь какие тайны от матери могут быть у дочери? Кто лучше поймет, посочувствует, утешит, исцелит?..
Она говорила, как бы оправдываясь, точно опасалась досады Мохаммеда за разглашение их личной тайны. Между тем этот шаг Лалы еще больше возвышал ее в глазах любящего друга.
Он порывисто пожал ей руку:
– Верно ты поступила. И впредь ничего не таи от матери. Ну, и что она сказала?
– А что ей было сказать? Побелела как бумага. Обняла меня, слезы льет. Ты, говорит, кого изберешь, будет мне дорог. Но знаешь, мы связаны по рукам, и на ногах у нас прицеп-обуза. Ни отцу, ни тебе,ни мне не отвязать! Ты бы видел… Бедная мать взмолилась, заклинала, казнилась… «Это не любовь, это беда свалилась на твою голову… Отрешись от нее… забудь… погубит эта любовь нас!» Я тоже в ноги упала, взмолилась, без Мохаммеда мне жизнь не в жизнь, лучше уж живьем закопай в могилу… но не разлучай нас.
Не думал, не гадал Мохаммед, что в доме старого звездочета он столкнется с такой бедой, что его любовь напорется на такие преграды…
Он снова спросил: – И что же мать ответила?
– Ничего не помогло. Не смягчилась. Наплакалась, встала, как окаменела. «Это несбыточная любовь!» – отрезала. И… запретила видеться с тобой…
– Но почему? Из за чего?
Она отняла руки от лица и, сняв обручальное кольцо с безымянного пальца, вложила ему в ладонь.
– Вот поэтому. Вот груз, который перекрыл нам дорогу… Мать боится, что дело обернется худо.
Мохаммед оцепенел в изумлении, ужасе. Он впервые видел обручальное кольцо у Лалы.
– И когда же это надели на твой палец?
– Кольцо принесли давно. Но только сегодня мать надела… мол, «пусть все знают!»
Вот какая сила в маленьком колечке, подумал он. Кусок блестящего металла воплощал в себе незыблемость шариата, морали, закона, обычая, освященных обществом. Но именно поэтому это кольцо было ненавистнее, чем колечко в ухе раба… Оно жгло, обжигало ее руку и … его сердце. Казалось бы, сними и отбрось… Но разве можно перечить нерушимым уставам, которые отняли волю, лишили права выбора любимую? Эти уставы и обычаи – стена, поколеблешь, хлынет сель, стихия, жаждущая жертвы.
– Когда же тебя обручили? И кто он?
Она сбивчиво и слезно поведала историю этой кабалы. Ее обручили еще в детстве, когда ей не было еще восьми лет. И суженым был единственный сын двоюродного брата отца – Мустафа Эмин.
«Чем же это закончится?» – подумал он про себя. – Что же теперь станется? – произнесла она, словно угадав его мысли.
– Я девушка. Что я могу? А ты мужчина. Найди выход…
Мохаммед в душе проклинал косные обычаи, навсегда лишившие его любимую права на любовь, и его самого права на соединение с любимой, с отчаянной решимостью, готовый разорвать удушающие любовь цепи, будь они даже в руках шайтана, он проговорил:
– У любви есть свои законы, Лала! И перед ней бессильны все законы! Я завтра переговорю с твоим отцом. Если и он не даст согласия, я найду другой способ…
– Отец мой не станет противиться… Он не восстанет против моих чаяний… Даже… думаю… даже обрадуется такому повороту… Меня склонял к этому браку двоюродный брат отца – Осман… Ты не знаешь, что это за человек. Если даже его сын отстанет от меня, он не уймется. Это и пугает мою мать. Осман, если взбеленится, ни перед чем не остановится, может поднять руку и на родного сына...
Слова Лалы об отце обнадежили Мохаммеда. Он сам почувствовал, что Шейх Эмин души не чает в дочери, обожает ее и ради нее пожертвует всем, такой просвещенный, достойный человек не может, не должен согласиться выдать замуж свою дочь за нелюбимого человека, продать как рабыню с закрытыми глазами!
С этой надеждой он стал утешать Лалу, убеждать, ободрять:
– Пусть хоть весь мир ополчится – не отрекусь от тебя. В крайнем случае уедем в Азербайджан!
Эта неожиданная мысль показалось и ей естественным выходом. В глазах ее забрезжила надежда.
– Уедем! Уедем!
С этими словами она рассталась с Мохаммедом.
И он, в сопровождении доброй и самоотверженной Захры покинул сад и направился домой через город, погруженный в печальную и усталую тишину.
По дороге его снедали невеселые мысли, и недавно вспыхнувшие надежды стали окутываться туманом; но чем больше в сердце закрадывались сомнения, тем больше в нем все восставало, накипала ярость и крепла решимость бороться против этих унизительных тенет.
Судьба уготовила ему такое испытание, такой водоворот, где не было иного выбора, как погибнуть или вырваться – к счастью!
У каждого бывают в жизни минуты, когда так нужна опора, совет, поддержка друга.
Он вспомнил о своем друге, поэте Хазиране.
С его помощью можно разузнать об Османе и Мустафе Эмине, попытаться вразумить их, и … если обойдется миром и согласием, вверить другу сватовство и направить его в дом старого звездочета. Хазиран был остер умом и горазд в красноречии…
Эта мысль воодушевила его настолько, настолько обнадежила, что он решил не откладывать дело на завтра и сейчас же, на ночь глядя, явиться к верному другу домой…
|
|