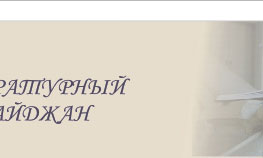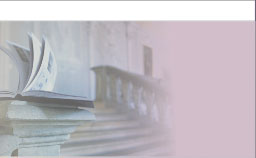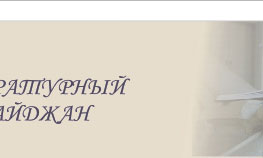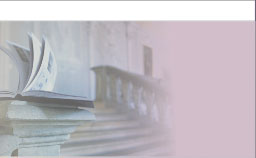|
Памяти Ровшана Мустафаева посвящается
Рано ещё. Ещё совсем рано. Так рано, что мне кажется – солнце ещё глаз не открыло. Но тетя Неля уже гремит кастрюлями на кухне, а Берта, во дворе, своим зычным голосом разговаривает с водой, с метлой, с туповатыми горлицами – с ними у нее особенно хорошо выстраивается утренний диалог:
– Опять весь двор обгадили?
– Гули, гули, гули, гули …
– Чего «гули, гули», двор, говорю, во что превратили?
– Гули, гули, гули, гули …
Пора вставать, я это чувствую, потому что уже проснулась моя Печаль, проснулась и теребит меня. Странная штука – Печаль. Она свободна. Гнев человека связывает. Злость не дает вздохнуть полной грудью. Ненависть мерзкой изжогой сидит в горле. Лучше всего, если можешь взглянуть на то, что с тобой происходит, сквозь Печаль. Печаль свободна, у неё свободные крылья птицы. Вот почему, когда мне печально, я смотрю на людей с сочувствием, мне кажется, что я лучше их понимаю, слышу, вижу. Жалость тянет обратно, вниз. Высокомерие просто ждет, чтобы кто-нибудь обратил внимание. Самолюбие, как мне кажется, ничего не ждет, просто наслаждается фактом успеха или поражения. А вот печаль, печаль спокойна… Печаль – сумерки души, час, когда солнце уже село, а звезды еще не взошли, и все вокруг, кажется, посыпано серебряной пылью и не хочется зажигать огня в комнате.
Чувствую, что я в своей печали – свободнее некуда, вон в какие философские дебри меня понесло, а все от чего? От того, что свободы тьма – делай, что хочешь, отправляйся, куда глаза глядят. Что я и делаю. Встаю и отправляюсь умываться. Печально открываю кран, смотрю, как печально льется вода, с чувством глубочайшей печали чищу зубы…
Идиотское состояние: мне хорошо оттого, что мне плохо.
Берта стоит во дворе перед краном. Сейчас она меня увидит.
– Дооо-ча, – увидела, – иди сюда на минутку.
Я несколько мгновений упорно делаю вид, что не слышу ее. А Берта прекрасно знает, что я притворяюсь и, подсыпав сахара в голос, снова зовет меня, добавляя ласки в интонации ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы мне сделалось стыдно. Стыдно мне сделалось – иду. Берта стоит, опираясь одной рукой на вентиль крана, в другой держа шланг…
– Доча, айналайка моя («айналай» в переводе с таджикского – «радость, счастье мое»), открой воду, – говорит она и убирает руку с вентиля. Я на секунду задумываюсь – может, что сказать, может, как-нибудь посмотреть, может, придать лицу какое-нибудь этакое выражение, потом понимаю всю глупость моего положения и без всяких выражений открываю воду.
Берта довольна, более того, она счастлива. Счастлива искренне, как-то по-детски. А мне остается только догадываться о том, что же она придумает завтра утром. Где-то в глубине дома раздается характерный щелчок. Включили магнитофон.
Я (фаталистка по своей природе) загадываю – если Розенбаум, то Он сегодня позвонит, если рок-н-ролл, то… не успеваю: «Заходите к нам на огонек». Вздыхаю с облегчением – Розенбаум – значит, позвонит. Выходит на кухню заспанный Фред – это он каждое утро ставит Розенбаума… Фред завтракает, завтракает долго и нудно… С привычными вздохами и разговорами о том, какой тяжелый день предстоит ему сегодня пережить, садится на велосипед и уезжает на работу.
Я слушаю про то, как – Налетела грусть, Ну что ж, пойду, пройдусь.
Мне её делить не с кем – чудак-человек, кто же захочет с тобой грусть делить, это же не деньги, не золото, даже не яблоко на худой конец. Грусть – дело неприятное, так что надежды на дележку практически никакой. Мне мою грусть тоже некому скинуть, так как я прекрасно понимаю, что Он не позвонит. Но честно буду ждать.
Вот уже неделя прошла с того дня, как я уехала в Коканд. Да нет, если откровенно, начистоту, то в Коканд я не уехала, а сбежала. Сбежала, оставив пыльный, раскаленный добела жарою город, а в городе – Его. Убегала в обиде, в большой обиде на всех, потому что в обиде – на Него. Решила уехать ненадолго – «на минутку».
…Можно уйти «на минутку»?
Когда-то в детстве мне разрешили, и я вернулась только под вечер. Я не лгала, не обманывала маму, не хотела обмануть, просто забыла обо всем, ибо то, что я встретила, было сильнее меня.
Море было сильнее меня, песок был сильнее меня, разные-преразные камешки были сильнее меня, рачки, бегающие по ногам, тоже были сильнее…
Я забыла вернуться к обеду. Вернулась только под вечер, когда солнце уже собиралось свернуться по-кошачьи калачиком за кромкой моря. Шла по остывающему пиршагинскому песку, голодная, грязная, зареванная. Мне было так жаль себя, ушедшую на минуту и не позванную никем.
Может ли капля, оторвавшаяся от ладони, сказать, – «я на минуточку»? Может ли «на минутку» улететь стрела?
Он не звонит… Может быть, я уже капля, уже стрела? С каждым днем я улетаю все дальше, а Он не зовет меня, не напоминает, что пора домой.
Ну да. Да, мы поссорились, но причина ссоры была какая-то надуманная, с очень большим трудом высосанная из пальца. И вяло так, без задора, мы обменивались тупыми репликами. Он видел, что я ухожу… Жестоко? Наверное. Но в этом, увы, нам ничего не дано изменить. Я знаю, что бывают мгновения длинные, словно день, и дни, короткие как шаг секундной стрелки…
– Я уезжаю в Коканд, – и потянулось мгновение длиною в день...
– Зачем?
– Подумаю, – и еще одно мгновение – длиною в вечность... Прямо слышно, как нейроны у Него в голове включаются, переключаются, перегорают от коротких замыканий…
– О чем?
– О нас. Ну, так я уезжаю?
Я его спросила, а Он не сказал: « Только обязательно возвращайся». И я с ужасом почувствовала, что превращаюсь в каплю, в стрелу, потому, что не может капля оторваться от ладони на минутку. Снег – от неба. Стрела – от лука. Лишь на минутку.
Нет! Нет!! Не может!!! Невозможно это!!!
– Ну знаешь, милочка, так нельзя, – говорю я себе, – чего это ты разоралась: «Нет! Нет!!». Чего ты, собственно, ждешь? Ведь ты же все знаешь. И не смей мне тут реветь!
– Я не реву, – это лук очень злой и горький попался, а от злости и горечи всегда плачут.
– Весь этот год длиною в один шаг секундной стрелки тебе было горько?
– Не знаю, – всхлипывая и пытаясь не захлебнуться собственными соплями, отвечаю я себе. – Знаешь, мне было так хорошо, что было горько. Да и кто тут может провести грань?
На грани сходятся любовь и ненависть. Грань – это линия объединения, которая разделяет. Два ветра встречаются и кружатся в едином вихре. Синоптики говорят о границах двух воздушных масс. А это просто два дыма, идущие из разных труб, сошлись здесь, чтобы вместе подняться в небо. Эх, надо же, как закрутила, – сама тащусь. А что? Может быть, я даже права, ведь если приглядишься повнимательней и научишься ходить по этим граням-границам, то начинаешь понимать, что это вовсе не такие прямые линии. У них, у граней, тоже есть свои завихрения и свои изгибы. И даже свои компромиссы – именно через грань соединения ржавчина переходит с одной плоскости на другую… с одной плоскости… с одной…
О, Господи! О чем это я! Ах, ты! Надо же – палец порезала. Господи, как же больно-то, а! Больно…
Вот и здесь, где граница между болью души и болью порезанного пальца? Где граница между костром и ночью, где кончается тьма и начинается лес?
Покажите мне границу, где кончается один человек и начинается другой? Это что? Отчетливо видимая глазу линия – одежда – это ли есть граница? Заканчивается ли человек кончиками пальцев?
Покажите мне невидимые границы, которые переходят Он и Она, когда их влечет друг к другу. Никто еще не сказал ничего, никто ничего не услышал, никто никого не коснулся; но чем же они задели друг друга?
Где граница между двумя взглядами?
– Хватит, заткнись, – кричу я сама себе. – Вот ты посмотри на себя! Ты захлебнулась своей любовью, и теперь, как рыба, выброшенная на берег, ловишь ртом воздух, задыхаясь. И хотя твой хвост в воде, но голова-то на суше, – вот тебе твоя грань, на которой ты подыхаешь – ждешь звонка, а Он не звонит.
Звонок… в дверь. Мужчины пришли на обед. я в слезах, в соплях, в крови, а они едят и нахваливают.
– Я люблю, когда в соусе много лука, – говорит Фред.
– И посолено в меру, – добавляет Мазей.
Заходит Берта. Она тайно и страстно влюблена в Мазея, так тайно, что об этом знает тетя Неля – жена Мазея, Фред – сын тети Нели и Мазея, мы, понаехавшие (Наташа и Гюля) и сбежавшие (я) из Баку гости, а также все жители достославного города Коканда. Семья Мазеев переехала в Коканд недавно, и они снимают у Берты дом, а сама Берта живет в этом же дворе, в доме поменьше.
Итак, еще раз. Заходит Берта, она страстно влюблена в Мазея. Когда он приходит, то она непременно находит себе какое-нибудь дело поблизости. Мазей подшучивает над ней или воспитывает её. А Берта – великолепная актриса, прикидывается глупой, безграмотной бабой и тихонько обволакивает его собой. Уловок, ужимок, хитрушек всяких у нее в арсенале немного, но действуют они наверняка… Жду, какую она продемонстрирует сегодня.
– Моя Мазейея, – полупоет Берта, – ты же знаешь, какая у меня психическая работа?
Работа у неё действительно – только поискать. Днем Берта плачет на похоронах, а вечером – поет на свадьбах. …Где эта грань между рождением и смертью, между плачем и песнью? Ну вот, меня опять начало заносить. Нет, лучше вернемся к нашей Берточке.
– Работа у меня тяжелая, – продолжает причитать она, – поэтому у меня болит все: и печень, и почки, и диабет очень болит, а ещё я каждый день пью экстренное лекарство (экстракт валерианы), ты же сам видишь.
Тут, на мою беду, Берта оборачивается, видит меня, быстро вскакивает, и – прижимается своими потными и жирными губами (она еще не успела дожевать кусок жареной баранины), целуя меня в обе щеки. Я еле сдерживаю стон. Берта вновь счастлива. Уж она-то знает, как я люблю, когда она меня вот так целует.
– Ах ты, айналайка моя! – говорю я ей, потому что других слов у меня нет. Нет, они есть, их очень много, но не при мужиках же!
Все смеются. Мазей легонько хлопает Берту по плечу. Тут раздается не крик – нет, нечеловеческий рев. Берта, вскочив с табурета, хватается за сердце.
– У меня астма, меня мой мамочка любимая не бил.
– А надо бы, – думаю я, – очень даже не помешало бы.
– Ах, ах, умираю.
Обиделась, ушла. Но это только начало. Через минуту Берта влетает на кухню, леопардовым скоком кидается к телефону и вызывает себе скорую помощь. Несколько раз она выбегает за ворота, – посмотреть, «ну где же пропала эти врачи?». Наконец, по двору величаво шествует Берта, за ней – бригада скорой помощи. Она бодрым шагом подходит к топчану, стоящему во дворе под старой чинарой, быстро скидывает халат, быстро ложится, быстро закатывает глаза и начинает стонать. Стонет хорошо, громко; так громко, что постепенно подтягиваются соседи из близлежащих дворов.
Врач, светловолосый кряжистый мужичок – по всему видать, татарин – уставший от жары, спрашивает, что же у Берточки болит на этот раз (Берту знает весь Коканд). Берточка подробно описывает ему историю своих болезней, начиная с самого младенчества, причем не только ее, но и всех, близких и не очень, родственников. Врач после двух стаканов чая достает рецептурный бланк:
– Сколько Вам говорите, уважаемая Берточка, лет?
– Пятьдесят семь.
Тут Берта замечает, что во двор наконец-то вышел Мазей – и, лукаво подняв бровь,говорит:
– Нет, нет, я сперепуталась, пятьдесят шесть.
Бригада «скорой» уезжает. Мазей успокаивает плачущую, по-моему, от смеха Берту. Все довольны. Мужчины снова садятся на велосипеды и уезжают на работу. Я включаю Розенбаума:
Летать, так летать,
Гулять, так гулять,
Любить, так любить.
Но птицы уже летят высоко,
Летать, так летать,
Я им помашу рукой.
Лечить некого. Берта уже здорова. Гулять не хочется, любить тоже, летать – тем более. Ничего не хочется. Жарко. Полуденная жара в этих местах длится не долго – около двух часов. Но эти два часа стоят целого дня.Да что там дня, – недели, года, вечности...Хочется кричать от бессилия.
– Повторяешься, дорогуша. И врешь. Тебе не от жары, и не от бессилия кричать охота, а потому, что ты все знаешь. Знаешь, что не позвонит. Тебе ведь так отчаянно хочется, чтобы Он позвонил, а не позвони-и-и-т. А тебе плохо, – продолжает ехидничать стерва, сидящая внутри меня, – ведь ты Его любишь, ты нестерпимо Его любишь.
– Да, люблю. Скалься, сколько хочешь. Можешь мне не верить, но любить я Его буду всегда. Сначала Его, потом боль любви к Нему; когда боль утихнет – память о боли любви к Нему.
– Зачем же ты уехала? Почему не осталась?
– Хотела, чтобы Он меня не отпустил, хотела, чтобы заставил остаться, хотела почувствовать, что нужна Ему. Хотя знала, что Он меня не поймет, не услышит. Он никогда меня не слышит, слышит лишь свой отраженный от меня звук. Он по-другому не умеет. Вот и сейчас – наверняка скучает, ждет моего звонка, а самому позвонить – и в голову не приходит. А я тут умираю от Его бессилия, от Его глухоты, от Его тупого эгоизма.
Ведь я кричала, уезжая, а Он не услышал. Я чувствую, как что-то ломается во мне. Рвется. Я разбиваюсь на миллион частичек, причем, не в миг, а долго… постоянно. Слышишь звон?
– Слышу, слышу… Это у тебя от безделья. Иди и найди себе занятие – забывайся в труде. Говорят, помогает. И вообще, если тебе так плохо, позвони сама.
– Не могу…
– Тогда не жди звонка.
– Не могу не ждать звонка, потому что знаю – понимаешь, глупая, – я знаю, что Он не позвонит.
Гладить белье – мое любимое занятие, особенно мужские сорочки. Вот так бы взять, да и разгладить Его душу. Чтобы нигде ни складочки, вот она передо мной ровная, спокойная, гладкая. Почему так вышло: я Его понимаю, себя понимаю, а Он нас – себя и меня – понять не может. Не может понять, что когда обижает меня, то и себя во мне обижает.
Если Он сегодня не позвонит, я сдам билет и останусь еще на две недели и... снова буду ждать Его звонка. Звонок. Я подбегаю, хватаю трубку, – Фред спрашивает, что мы готовим на ужин.
– Да вот, душу вымачиваем в красном вине, а потом – в кипящее масло.
– Фу! Какая гадость, прямо инквизиция какая-то. Вечно ты всякую ерунду выдумываешь.
А почему, собственно, ерунду? Я вымачиваю свою душу в терпком красном вине обид и страданий. Интересно, какой я вернусь? Что я почувствую, когда вновь Его увижу?
Утюг срывается с подставки, и хватает своей раскаленной ладонью мою ладонь. Я чувствую, как сгорает моя кожа, кровь, выступившая было, закипает и, шипя, сворачивается, столкнувшись с раскаленной волной. У меня темнеет в глазах, но не от боли, а от ужаса пришедшего осознания: «Все кончено». Независимо от того, позвонит Он или нет, позовет или не позовет. Грань, та грань, за которой точка невозвращения – она перейдена. Все. Все закончилось. А мы и не заметили, когда закончилось Начало и наступил Конец.
Весь вечер я, как сумасшедшая, срываюсь на каждый телефонный звонок. Но это уже по инерции. По инерции, в сотый раз объясняю себе, что я уехала, потому что Он должен быть свободным, потому что Ему тяжело было бы со мной. Он чувствовал, понимал, что я ему все время что-то говорю; он иногда пытался расслышать, догадаться и не мог, и страдал от этого.
Мне иногда кажется, что мы живем с ним в разных временных пространствах. Он все время торопится, торопится жить, торопится что-то создать, занять должность, хватается за все: переводы, статьи, рецензии. Он о себе знает точно: он – творец, он – гений. Нужно работать, нужно успеть, нужно многого добиться. И все бы ничего, ну гений, ну творец. Так нет, ему этого мало: все, абсолютно все, кто Его окружают, должны соответствовать – творить, быть гениальными. Я тоже хороша. Но так быстро я не могу, не успеваю. Ведь в каждом из нас живет гений. Вопрос в том, какой. Люди между собой сходятся проще, чаще, а вот их гении между собой иногда договориться не могут. Нашим, видимо, не договориться.
Я заставляю себя поставить глагол «любить» в прошедшее время и не могу – губы не повинуются мне, сердце не повинуется мне, мозг мне не повинуется.
Я все еще люблю Его к… стоп! вот этого говорить я не буду. Слово это, когда ставится в конце, разрушает все предложение… «к сожалению» – сказанное в конце, взрывает, рушит всю предыдущую жизнь.
Есть что-то чудовищно-уничтожающее в этом слове. Как будто ставишь крест на всем сказанном, подуманном, совершенном. На всей прожитой до этого слова жизни. Резкий удар, как кнутом по лицу – «к со-жа-ле-ни-ю»!
Вот и получается, что любила тебя – к сожалению, жертвовала собой – к сожалению, ждала твоего звонка – к сожалению. Жаль. Сожалею. Зря…
Опасное слово. Страшное, безвозвратное какое-то. И ставится-то оно всегда в конце, когда уже сделано что-то.
Никому ведь и в голову не придет сказать: «к сожалению, выпью молока» или « к сожалению, полюблю». Оно только в конце приходит, чтобы все уничтожить.
Мертвая точка, граница, за которой смерть – вот что такое «к сожалению». Когда ты его произносишь (или только подумал), – что-то умирает, кому-то (или чему-то) ты подписываешь смертный приговор: другу своему, ближнему, любимому, самому себе, а вместе с этим – и всему, что вас связало и связывало до «к сожалению».
В утренний час, когда солнце ещё не открыло глаз, произнесешь это страшное слово «к сожалению», – и солнце закатится, не достигнув зенита…
Я люблю Его – к счастью! Мучаюсь, грызу подушку по ночам – к счастью! Я страдаю, и от страдания этого сердце разлетается на атомы – к счастью! Я теряю Его – к счастью! Все, все – к счастью.
Я не хочу и не буду подписывать этому году смертный приговор. Пусть он останется. Пусть он живет, а в нем – мы – те, которые еще любят друг друга, чтобы больше уже никогда не встретиться к … счастью.
Мне душно, я задыхаюсь, захлебываюсь от слез. Пересиливая абсолютно ощутимые боль и ужас, подхожу к окну, толкаю и…
«… открыть окно, как жилы отворить…»
Чье это? Вроде Пастернак. Где-то я сегодня это уже слышала. Ах, да, – Розенбаум. К счастью!
Коканд. Лето 1985 г.
Послесловие
Мы были молоды…
Вот уже которая бессонная ночь, – третья? четвертая? – не знаю. Каждый вечер повторяется одно и то же: домашние расходятся по комнатам, укладываются спать. Я сажусь за стол, кладу перед собой чистые листы бумаги, беру ручку и пишу первое предложение этого послесловия – «Мы были молоды… ». А дальше, – дальше никак.
… Недели три тому назад, вечером позвонила мама:
– Знаешь, я наверное тебя очень расстрою этим известием.
– Что случилось?
– По новостям передали, что Ровшан Мустафаев умер.
– Ровшан?.. Ну что ж, очень жаль, – молодой чувак. Он ведь всего на год старше меня. Наверное, сердце.
– Ты так спокойно об этом говоришь, как будто…
– Ма, ну что «как будто»? Это было так давно, – почти что в прошлой жизни…
За вечерней суетой домашней рутины как-то ни о чем не думалось. Но память уже склонилась над своим потертым саквояжем, что-то оттуда доставала, разглядывала, откладывала в сторону: образы, обрывки диалогов, еле угадываемый след давно брошенного, как бы невзначай, взгляда и несколько пожелтевших от времени гранок. Потом сложила все отобранное в аккуратную стопку, вздохнула и грустно улыбнувшись, пододвинула ко мне.
… Восьмой этаж издательства «Коммунист» (сейчас «Азербайджан»), длинный полутемный редакционный коридор «Молодежки». Он в светлом, жутко модном, вельветовом костюме; немного сутулый, как, впрочем, почти все высокие. Взгляд над очками, чуть изумленный оттого, что все время, как-то по-детски, морщит то ли нос, то ли лоб, то ли все вместе.
– Привет. Знаешь, я тут кое-что написал вчера, – послушаешь?
… У нас случился небольшой роман. Так бывает: пара взглядов, пара фраз, – и кажется, что навсегда. Но проходит немного времени и понимаешь, что просто зацепило шальной стрелой Амура, который целился вовсе не в нас. И то, что казалось «любовью навек», вдруг прямо у тебя на глазах ссыпается к ногам небольшой горкой песка. Сначала обидно, – потрачено столько сил, столько эмоций. Потом злишься – просто злишься,и все. Потом больно, – ведь, расставаясь, что-то по живому отрываешь от себя. Со временем обида, злость и боль приобретают привкус светлой грусти, а потом память собирает все это, складывает в пакет, на котором сбоку приклеен ярлычок «молодость», и кладет в потертый саквояж: «Пусть хранится до поры, до времени…».
… Я вернулась из Коканда, написала «Лето под Розенбаума», – надо же было все уложить в голове. Уложила. И уволилась из «Молодежки». Чтоб уже наверняка «с глаз долой – из сердца вон». А потом была жизнь длиною в двадцать пять лет. Обычная жизнь, как у всех. Иногда от кого-то слышала о нем, иногда видела в телепередачах и радовалась за него, – он ведь всегда стремился к известности, ему всегда необходимо было признание. «Ну и славно», – думала я тогда. Казалось, так будет всегда. Но мамин звонок… и его уже нет. Осталось только несколько пожелтевших страниц. Перечла и подумала:
– Вот она, грань между жизнью и смертью. Здесь его уже нет – к сожалению! А в памяти и на этих пожелтевших листах редакционных гранок, – он жив. Жив. Высокий, чуть неловкий, но очень амбициозный мальчишка, в светлом, жутко модном, вельветовом костюме. Жаль только, что брюки немного коротковаты…
… Опять за окном светает. И написано только одно предложение.
Мы была молоды… К счастью!
Баку, февраль 2009г.
|
|