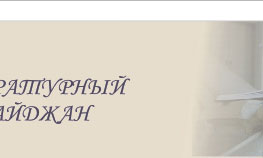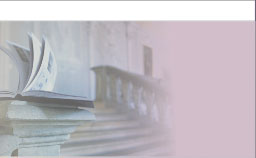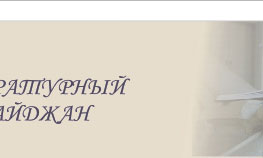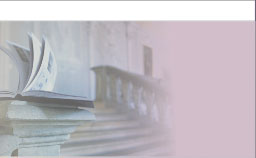|
Рафаэлю Шику – 93 года. С трудом передвигается с помощью палки, но сохранил ясность ума и по-прежнему пишет стихи, которые могут служить «маяком» нам, сегодняшним, точностью рифм, неподдельностью чувства, уважением к слову и читателю.
Родился в Баку, воевал. Самодельная финка за голенищем сапога, рация на спине… Про свои рейды в тыл врага рассказывать не любил. Впоследствии работал сценаристом на Азербайджанском телевидении, написал книгу про бакинский цирк, возглавлял сумгаитскую «вечёрку». В начале 90-х эмигрировал Германию, живет в Дюссельдорфе.
* * *
Я прoжил жизнь cвoю кaк чeрнoвик.
Пeрeпиcaть – ни врeмeни, ни мoчи,
Нeт дaжe мecтa для пocлeдниx cтрoчeк,
И кaждый дeнь короче и кoрoчe,
И кaждый час – кaк быcтрoтeчный миг…
И чтo c тoгo, cкaжи мнe, дурaлeй,
Чтo миг прoдлишь? Нeужтo этo вaжнo
Для нынeшниx и будущиx coгрaждaн?
Beдь нaдoбнo и cмeрть принять oтвaжнo,
Koль eй нe минoвaть твoиx двeрeй.
Moй cтиx cрывaeтcя нa нeрвный крик,
Koрoткий, резкий, словно мeждoмeтьe.
И cчacтлив тoт, ктo в cмутнoe cтoлeтьe
Bпиcaть cумeeт в яркoe coцвeтьe –
Пуcть лишь oдин нeпoвтoримый миг.
* * *
Не за горами, в час неранний,
На виртуальном рубеже
Приду к тебе я на свиданье,
А ты – состарилась уже.
Тебя в тебе узнать пытаюсь,
Но тщетно. Нет, не узнаю.
И я – не я. Напрасно маюсь,
Тобой не узнанный стою.
Но где-то в глубине сознанья
Вдруг промелькнёт не блик, не штрих,
А лишь предчувствие свиданья
В просторах дальних мирозданья
И узнаванья –
нас, двоих.
Памяти Бориса Чичибабина
Смотрю военный старый фильм –
и плачу..
Не потому, что так люблю войну,
Да и картина – явно не удача:
Таких поделок видел не одну.
Сентиментален несколько сюжет,
Прямолинеен, нет второго плана…
Но танк есть танк.
И пушка – без обмана.
И столько точных времени примет,
Что вдруг разбушевалась память-рана:
Резной мундштук почувствовал в зубах,
За голенищем – ножик самодельный…
Ах, сколько в заболоченных полях
Еще ползти нам под огнем прицельным!..
Наш командир имеет опыт. Строг.
Идти, сказал, недолго нам осталось.
Но этот путь короткий – эта малость –
Для многих был мучительно жесток!
…А я дополз до нового столетья
И двадцать первым веком оглушен…
Где взять слова, чтоб смог друзей воспеть я
И молодость, похожую на сон!..
О, если б знать, что где-то есть Всевышний,
Который их без ритуалов пышных
К святым причислил, отпустив грехи…
Я нем.
Я слеп.
Я в новом веке лишний,
Свои долги еще не оплативший,
И прошлое все дальше и неслышней…
А дальше начинаются стихи.
Hallo, Эдик!
Поздно ночью зазвонил телефон. Голос в трубке так рокотал, будто из соседней комнаты звонили:
– …Честное слово, все цеха обошел, но найти его не мог. И на блюминге был, где он раньше работал, и на новом трубозаготовочном стане…
«Черт побери, что за ахинея?» – раздраженно думал я, окончательно еще не пробудившись. И здесь, в тихой Германии, достали меня бывшие коллеги. Знал, что недалеко, в Эссене, живет один такой, нештатничает на радио, а недавно из Бохума напомнил о себе отставной полковник, что в свое время работал на бакинской киностудии.
– Не дурите мне голову, прошу вас, – зло сказал я.
Но звонивший не унимался.
– Да как же, вспомните, вы же сами меня посылали к Гюльмамеду Гасанову, который взял к себе в бригаду коммунистического труда бездомного парнишку. Хочу сделать репортаж о сыне бригады…
В конце концов моему абоненту из Америки Эдуарду Тополю, – а это был именно он, – надоело участвовать в предложенной им же самим веселой игре, на которую я был так неподатлив. Наверно, подумал: задубел старый хрен. И хотя я сообщил Эдику, что привез с собой в Германию подаренные им когда-то рукописи ранних стихов и рассказа «Если бы я родился в Париже», который мне до сих пор очень нравится, понял, что разговора уже не получится. Последовала пауза.
– Какой рассказ? Что-то не припомню такой…
Эдик Топельберг (это его подлинная фамилия) после войны жил с мамой, папой и сестренкой в Полтаве. Антисемитизм там был страшный. Его били, мазали губы салом, всячески глумились. Победившая фашизм страна была взбудоражена пресловутым делом врачей. Зимой, когда оно достигло апогея, начались погромы. На крыльце соседнего дома, где тоже жили евреи, озверевшие «патриоты» написали: «Жиды, мы вашей кровью крыши мазать будем!»
Семья Топельбергов забаррикадировалась. Три дня не открывались ставни, двери были на запорах, родители не ходили на работу, дети – в школу…
После этих печальных событий Эдик оказался у дедушки в Баку, в котором родился и жил еще до войны, но города не помнил. И он поразил мальчика своей душевной теплотой. Про бакинцев тогда говорили, что это особая нация, живущая по своим законам братства, независимо от состава крови и цвета кожи.
Но в университет после школы Эдика все же не приняли, хоть сочинение он написал стихами. Думаю, что неплохими стихами, поскольку как поэта его вскоре начали печатать центральные толстые журналы. Но что поделаешь, руководящие указания сверху доходили и до Баку.
В сумгаитской городской газете, которую я несколько лет редактировал, Эдик появился, уже отслужив в армии. Пришел с опубликованным в «Неве» стихотворением «Таджибаев пьет чай».
Написанное с доброй улыбкой, солдатским юморком, пристальным вниманием к деталям, оно сразу запомнилось:
Разве мне описать,
как, глаза чуть прикрыв,
Пьет он чай бледноликий,
все в мире забыв!
И такое блаженство в морщинах у глаз,
Словно песню узбекскую
шлет ему саз…
В редакции тогда работало много одаренных ребят, ставших впоследствии профессиональными писателями: Захарий Копелиович (в «Литгазете» он был Шохиным, в Израиле известен, кажется, как Керрер), Олег Зейналов, Петя Сысоев… Эдик и среди них отличался целеустремленностью, неповторимостью, он просто светился талантом. Мы сразу прониклись друг к другу симпатией.
Однажды (он уже, кажется, перешел в республиканскую газету «Бакинский рабочий») Эдик зашел по каким-то делам в сумгаитскую редакцию и, узнав, что у меня день рождения, вручил только что отпечатанную подборку стихов и рассказ с такой надписью:
«Дорогому другу и учителю, с которым мы вместе дымили в Сумгаите так, что Слава отворачивала нос и закрывала дверь, с самыми лучшими пожеланиями в день рождения. II. 8. 63. Э. Тополь». (Слава – это наш бухгалтер, которая довольно неравнодушно на него поглядывала).
Рукопись и сейчас у меня хранится. Я перелистал ее. Жизнерадостные стихи молодого человека, твердо знающего, чего он хочет.
…Срывайся поезд в ночь, в туман,
В метель, в дожди, в чужие страны.
Пусть будет счастье, как обман –
Работа не была б обманом.
Да, вся жизнь была еще впереди!
А на рассказе «Если бы я родился в Париже» Эдик сделал такую приписку: «Если бы я родился в Париже, вы получили бы не такой рассказ».
Неужели, Эдик, ты его не помнишь? Он о твоей маме, сестренке Беллочке и, главным образом, о папе, который всю жизнь собирал диапозитивы, никому ненужные старинные «стекляшки».
«Мой отец – мальчик. Потому что он не смог перешагнуть через мечту своего детства. И все мы дети в какой-то степени, так как мечты детства живут в нас где-то глубоко-глубоко, хотя мы в этом не признаемся…»
Тут я хочу сделать маленькое отступление.
Не помню, Эдик, как мы друг к другу обращались. В газете, скорее, на «вы». Потом, уже в кинематографической среде, в ходу было «старик», еще как-то. А став действительно стариком, здесь, в Германии, я отбросил всякую куртуазность и даже одну свою книжку подписал так:
Когда Рафаэль я без отчества,
То мне умирать не хочется…
Так что, хотя ты уже известный писатель, а я только дряхлый старец, будем держаться запросто.
И еще: должен тебе признаться, что не люблю детективов. Точнее, не то, что не люблю – с детства приучил себя на них время не тратить. Знаю, что многие, в том числе серьезные люди, интеллектуалы, расслабляются ими. А я не умею. Даже Бориса Акунина читаю только тогда, когда он пишет в другом жанре, под своей фамилией – Чхартишвили. А тут попалась мне твоя иронично-мемуарная книга «Игра в кино» – и я прочел ее, не отрываясь, на одном дыхании. Потом еще трилогию «Любимые и ненавистные». И открыл для себя многое, чего не знал. Ну, например, твои мытарства в кино.
Мне знаком этот мир. Работая редактором отдела документальных фильмов на Азербайджанской киностудии, я тоже отдал ему частицу своей жизни. Пусть совсем маленькую частицу, на другом уровне, но параллели напрашиваются.
Меня всегда увлекали документальные фильмы, выстроенные на архивном иконографическом материале – фотографиях, документах, письмах, дневниках. Этот жанр находится где-то на стыке игрового и неигрового кино. И ясно, что в таких лентах автор выступает обычно в нескольких ипостасях. Вот это как раз и вызывало самый ожесточенный отпор.
– У нас Чарли Чаплинов нэт! – говорил мне директор киностудии. – Сценарии пысать ми вам даем. Так ви еще, оказывается, режиссер. Может, и композытором хотыти стать? Подумайте, что мнэ скажут в ЦК…
Он тактично умалчивал о пятом пункте.
Не помогало и заступничество главы нашего тогдашнего Союза Рустама Ибрагимбекова, человека большого таланта, с обостренным чувством нового, уже известного в стране и за рубежом.
Но работу мне все же давали. Со мной стремились сотрудничать на равных многие режиссеры студии, и – что немаловажно – я был с Софьей Власьевной, как ты, Эдик, называешь советскую власть, в полном ладу. Ездил в главк в Москву, официально представляя киностудию, заказывал номера в лучших гостиницах (предпочитал «Москву»), а если надобно, то и транспорт, имел тесные контакты с азербайджанским постпредством, с ВДНХ СССР, где одно время числился членом какого-то методического совета – я ведь все еще наивно верил в Софью Власьевну.
А ты, Эдик, один из лучших и перспективнейших молодых сценаристов (так не раз представлял тебя крупнейший критик и теоретик кино, профессор ВГИКа И.Вайсфельд, сам читал), не имел иногда даже пятака на метро, одалживал у знакомых рубль-два на кефир или булочку, ночевал, как бомж, на вокзалах и где придется, в конце концов тебе вообще было отказано в московской прописке.
Такое у меня даже в мыслях не укладывается!
А ведь я тебя разыскивал, когда приезжал в Москву, и, конечно, с радостью помог бы. На «Мосфильме» мне говорили: «Тополь? Ищите его у режиссера Рогового, он часто у него ночует».
Много позже, уже у себя дома, когда однажды вернулся с работы, теща сказала, что заходил Тополь, хотел попрощаться перед отъездом в Америку. Очень жалел, что не застал.
Да, видно, не судьба.
Я читаю «Рассказы для серьезных детей и несерьезных взрослых» из «Игры в кино» и дивлюсь, сколько в них трогательной любви к сестре Белле – музе многих твоих фильмов и книг, ее дочке Асеньке – юной скрипачки, в пять лет игравшей шестую сонату Генделя…А в новелле «Эвакуация» снова возникает твой папа, у которого где-то в Сибири, в поезде воры украли единственное его богатство – старинные «стекляшки», которые он собирал всю жизнь. Хотелось и плакать, и смеяться, как на спектаклях Аркадия Райкина. Какие-то флюиды доброты исходят от книги, доброты ко всему, что окружает людей с детства и может лаять, мяукать, ржать, блеять, хрюкать и даже не издавать никаких звуков, только дышать. Ты мог стать замечательным детским писателем, Эдик!
Но больше всего меня обрадовало то, что поэзия, оказывается, от тебя никуда не ушла. Она осталась в доверительных исповедальных интонациях, в бережном отношении к слову, в мелосе, который звучит где-то в глубине писательской души.
Поэт и кинодраматург (сейчас и режиссер) Юрий Арабов, автор и соавтор почти всех фильмов ставшего уже классиком Александра Сокурова, как-то заявил на страницах «Литературной газеты»:
«Я как сценарист сделал десятка полтора полнометражных фильмов, многие из которых увешаны международными призами. Но любая строчка из хорошего стихотворения для меня остается более ценной, чем все мои кинематографические потуги».
Вот для меня пример великого служения и преданности высокому поэтическому слову. Хотя сейчас оно, слово это, совершенно не востребованно. Во всяком случае, намного меньше, чем когда ты, Эдик, начинал как поэт. Без имени. Без образования. Без опыта. Так может, пройдя через трудные испытания и добившись широкой известности, стоит тебе вернуться к истокам и обрести крылья для нового полета – ПОЛЕТА В МИР ПОЭЗИИ?
«Жизнь мы еще не доиграли», – пишешь ты в конце своей книги о кино. Дай Бог, чтобы до этого было далеко. Но, наверно, новая игра стоит свеч!
P.S. Когда сорок лет назад ты подарил мне рукописную подборку, я, помнится, показал тебе оказавшееся под рукой стихотвореньице, написанное в последний год войны – «В ночной Риге». Не самое лучшее, но за него сейчас не стыдно:
…Все дальше идем мы.
К руке рука.
В ногу,
рядами стройными.
Жизнь человечья
так коротка
между двумя войнами.
Ты пробежал глазами.
– А при чем здесь это – между двумя войнами?
– Ну, человечество научилось само себя истреблять… – встретив непонимание, дальше философствовать не стал.
– У вас, как у очеркиста, есть, чему поучиться. Оставайтесь им.
А мне и некогда было заниматься стихами. На хлеб ими не заработаешь. Кино тоже поглощает целиком. Как сказал один итальянский неореалист, кино – это сплошное ничегонеделанье без минуты отдыха. И вот сейчас, в спокойной, полусонной Германии, наверстываю. С гитарой в руках...
|
|