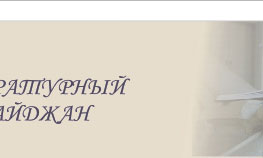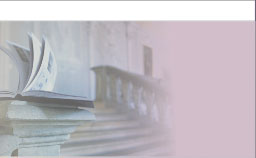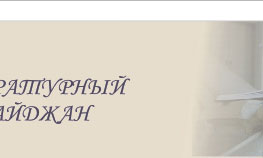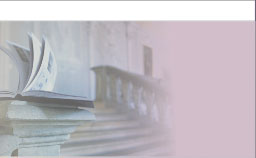|
ПРОЩЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
В церкви стоял едва заметный туман, и пахло ароматным цветочно-хвойным дымком. Помещение было недавно окурено, и лики святых с неблизкого расстояния теряли четкость.
Заутренняя прошла, новые свечи ждали прихожан, пряча в восковых сердцах пламя людских молитв и надежд. Лида пыталась запалить тоненькую янтарную свечу от огня лампадки, но та не загоралась. А когда, шипя и разбрасывая мелкие искорки, наконец, выбросила оранжевый язычок пламени, Лида невольно вздрогнула: по восковому телу церковной свечки потекли, бугрясь и застывая, мутные капли. Они смешивались с сажей от чернеющего и извивающегося фитилька и становились похожими на черные слезы. Лида подняла глаза на лик Пресвятой Девы, и их взгляды встретились. Женщине почудился укор в глазах, которые прежде были исполнены сострадания и понимания. На бликующем стекле, как на экране, неожиданно возникла картинка из давно минувшего...
– Это что за чудные розовые горошины? – притворно удивлялась молодая женщина, целуя пальчики пухлых ножек младенца. Наклонившись над ребенком, она нежно прикасалась губами к гладким пяточкам и, смеясь, добавляла. – Ах! Да это же наши сладкие пальчики, наши медовенькие пяточки! И щечки у нас самые бархатные, и губки у нас самые сахарные!
Обоим – маме и сынишке – такое общение доставляло бесконечную радость. И оба были счастливы... А потом память выдала картинку с изображением встревоженной матери, прикладывающей дрожащую руку ко лбу больного корью семилетнего сына. Лоб был сухим и горячим, высокая температура вызывала горячечный бред.
– Прогоните красных коров! – бессвязно лепетал малыш, не открывая глаз и мучительно кривя губы. – Не надо так громко топать!
– Хорошо-хорошо, миленький, мы не будем топать!.. – шептала мать, целуя горячую ладошку мальчика и беспокойно оглядываясь на часы в ожидании доктора.
– Не кричи! Не кусайся! – стонал больной ребенок, которому даже нежное прикосновение и шепот причиняли муку и страдание.
Лида зажмурилась, чтоб не видеть следующую картинку. К горлу подкатил удушливый ком. Но слез не было. Вместо нее плакала печальная церковная свеча, покрываясь бугорками застывающих мутно-серых капелек.
Удивительно: обычно церковные свечи горели ровным пламенем, не отягощаясь тающими каплями воска, они испарялись, а не растекались.
– Открой глаза! – скорее почувствовала, чем услышала Лида. – Не беги от правды!
– А в чем она, правда? – тихо, с досадой спросила Лида, глядя на руки Пресвятой Девы и не смея вновь взглянуть ей в глаза. – Да, и я любила свое дитя! И я не спала ночей у его кроватки! И я мечтала видеть его взрослым и счастливым! Я родила его, вырастила, а он оказался неблагодарным чудовищем. Он даже бил меня по пьяни...
– Не попрекай тем, что родила его. Ты сделала это для себя. Разве не так? Разве не хотела таким образом привязать к себе любимого человека? Любить сына ты стала позже, после рождения. А наш материнский долг заботиться о них. Попрекая неблагодарных детей тем, что произвели их на свет, некоторые пытаются обмануть самих себя. А ведь многие из рожденных обречены на муки. Кому, как не мне, не знать этого...
– Но ведь я отдала ему лучшие свои годы! Из-за него и жизнь свою не устроила, не хотела, чтоб рос с отчимом... – оправдывалась Лида, теряя уверенность в своей правоте.
– Не лги! Ты не была тверда в своем намерении. Тот человек был ненадежен. Именно это тебя остановило, а не его отношение к сыну.
– Может быть, и так... – все слабее сопротивлялась Лида доводам задумчивых глаз за бликующим стеклом. – Но я так надеялась, что мое старческое одиночество будет скрашено сыновней заботой. А он заставлял меня продать квартиру, требовал денег!
– И ты выгнала его из дома... Каково же тебе сейчас, одной в просторном доме? Радует ли он тебя, греет ли?
– Нет... Но ведь он пропил бы деньги!
– А что ты сделала для того, чтобы оградить сына от этого зла, от пристрастия к вину? Ты только ругала, унижала, упрекала его. Ты даже не заметила, когда жизнь сына дала трещину, когда ему необходима была твоя материнская защита, помощь, совет. И любовь!
Даже сегодня, сейчас сюда привело тебя не чувство вины, не раскаяние и желание что-то изменить, а потребность найти поддержку и оправдание своему поступку. Я ведь права? Вчера ты увидела своего сына потерявшим человеческое обличье, пьяным в подворотне, в грязи. Ты не сразу узнала его, и это опустившееся существо вызвало у тебя отвращение и брезгливость. Что ты почувствовала, когда поняла, что это – он?
– Страх... Я поспешила уйти. Чтоб не узнал... – отчаянно ища другие слова, ответила Лида. Но других слов будто и не было. Приходилось говорить правду.
– Был страх... и стыд, – Лида не могла лгать этим пронизывающим насквозь глазам. – Он был омерзителен!
– Этот падший человек – твой сын! Твое когда-то любимое дитя! На нем много вины, греха и порока. Ты не смогла уберечь его от них. Даже не боролась с поработившим его Злом!
– Боролась! Как могла...
– Вот именно! Сердце в этом участвовало. Даже сейчас, когда тебе вспомнились далекие и счастливые дни, твое сердце не заколотилось. А ведь оно должно было разорваться от боли, облитое кровью!
– Уже ничего не изменить. И ничего не вернуть... – по морщинистой Лидиной щеке медленно поползла запоздалая остывшая слеза.
– Не вернуть, это так! Но изменить что-то еще можно. Загляни в свое сердце, в тот уголок, куда ты не заглядывала почти сорок лет. Там ты найдешь ответ.
– ...Когда ему было лет десять, он так увлекся игрой в индейцев, что даже дома запрещал называть себя по имени. Придумывал какие-то затейливые прозвища: Черный Бизон, Поющий Койот, Желтый Мустанг или Чуткий лис. А меня называл то Ловкой Белкой, то Быстроногой Ланью. Однажды пробрался в соседний палисадник и надергал перьев из петушиных хвостов. Шуму было! Соседка в милицию пожаловалась. Пришлось прикупить ей пару куриц, чтоб утихомирилась, – Лида делала усилия, разгребая воспоминания, покрытые паутиной полузабвения и пытаясь разбудить давно угасшие чувства. – После этого скандала я переломала и выбросила все его индейские штучки, а самого побила шлепанцем... Он придумывал игры, которые всегда завершались неприятностями. И без конца врал! Однажды написал сочинение о бабушке, которая, якобы, воспитывала его, называла «хрустальным колокольчиком» за звонкий смех. Какая бабушка? У него никогда ее не было! Врун!
– Фантазер...
– Ничего себе фантазии! Назвал себя сиротой, у которого родители погибли во время ташкентского землетрясения. Выходит, он с детства желал мне смерти? – Лида теребила край жакета, быстро-быстро беззвучно шевеля губами.
Наблюдающий за ней со стороны церковный служка сочувственно покачал головой, мысленно прося у Господа помощи для столь усердно молящейся пожилой женщины.
– Просто он ощущал себя одиноким и брошенным, когда за полночь не ложился спать и дожидался тебя. А ты, вернувшись, вместо того, чтоб приласкать, бранила его за несъеденный ужин и за то, что до сих пор не спит. Он слышал твои телефонные разговоры с мужчинами, твой смех и шутки и чувствовал себя ненужным.
– Ненужной оказалась я! Когда он вернулся из армии женатым на гулящей девке на двенадцать лет старше себя да еще с семилетним байстрючонком! Господи, как он пестовал эту безотцовщину!
– Наверное, недополученная отцовская забота рождала в нем потребность самому позаботиться о каком-нибудь беззащитном существе.
– Вот и позаботился бы обо мне! Разве в итоге та стерва не наставила ему рога? А ведь я предупреждала, я это предвидела! Гуляла от него налево и направо. А кто его к водке пристрастил? Она! Это она, а не я, сломала ему жизнь. Я была права, когда пыталась открыть ему глаза. Чем все закончилось? Сбежала с очередным своим любовником, да еще все ценности из дома прихватила.
– Ты заявила в милицию, и твой сын получил срок за кражу...
– Это не он украл, а она! Он просто взял на себя чужую вину, оговорил себя, чтоб ее не посадили, – старая ненависть закипала в душе Лиды, мешала трезво мыслить. – Дурак! Пожертвовал собой ради какой-то развратной девки. Ради меня он не пожертвовал бы даже одним своим днем. А из-за нее два года отсидел.
– Может быть, он думал о ее сынишке, которого отдали бы в приют? Ты же сама говоришь, что твой сын очень привязался к мальчику...
– Вздор! Кто ему этот ублюдок?!
– Не сквернословь! Ты в храме.
Лида вдруг заметила, что слабое пламя свечи не отражается на стекле. Свеча погасла, оставив на полпути грязно-серые застывшие капли. Лида не стала запалять ее вновь, спешно перекрестилась и покинула церковь. Она искала поддержки и оправдания, но не получила их. Ведь прощение – удел покаявшихся.
Лида торопливыми старческими шажками направилась к выходу. Накрапывал мелкий дождик. Настолько мелкий, что походил, скорее, на водяную пыль. Смешиваясь с застрявшим в облаках городским смогом, влага оседала на всем движимом и недвижимом едва заметной мутной, жирной пленкой. Вряд ли такой дождь очистит воздух! Для этого потребуется хороший ливень. Но, судя по расползающемуся, как от хлорного отбеливателя, облачному покрову, ливня не ожидается.
Скоро облака окончательно растают, стряхнув на город остатки размокших переработанных выхлопов, а солнце, подсушив эту смесь, добавит бурых красок к зелени оскудевшей городской растительности. Чистые небеса, отчаянно сопротивляясь земной грязи, пытались вернуть ее обратно на землю. Трудная задача. Даже для небес...
Вечером, проходя мимо покореженных ржавых ворот глухого, заваленного каким-то хламом двора, Лида замедлила шаг. В нише проходного коридора, где она недавно увидела пьяного бомжа в грязных лохмотьях, никого не было. Кругом валялись обрывки старой одежды и картона. Лида прошла внутрь, вглубь двора. Ни души! Повсюду строительный мусор, безногие стулья, обломки оконных рам. Она подняла голову и едва успела отскочить: с балкона второго этажа рабочий приготовился сбросить ведро мусора.
– Ты вниз-то гляди, мужик! – сердито крикнула ему Лида.
Мужчина перегнулся через барьерчик и с удивлением спросил:
– А что Вам нужно, бабушка? Ищите кого-то? Хозяев нет, завтра будут.
– Я видела здесь... у входа, в нише... мужчина тут был... вчера.
– Вчера и помер. Скорая его увезла. Алкаш какой-то, – ответил рабочий. – Ребята ему хлеба отнесли, пожалели, а он, оказывается, помер, бедолага. Бродяга – не бродяга, а все ж человек... Вам-то он зачем?
Лида не ответила. Последние слова рабочего-ремотника опрокинулись ей на голову, словно щебень из его ведра. Она поспешила уйти. Скорее, скорее прочь отсюда!
Прощение отменяется...
ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК
Рена-ханым спускалась по широкой парковой лестнице к Площади Фонтанов. Она то и дело поправляла платье, ползущее кверху.
– Разнесло, как корову! – ворчала про себя Рена, снова и снова оттягивая ненавистное черное в белый горошек платье. Она привыкла ходить в брюках. Но сегодня предстояла встреча с литературным критиком, который, как ее предупредили, не любит женщин в брюках. А тем более в джинсах. Критик для писателя – все равно, что саблезубый тигр для пещерного человека. Вот и пришлось надеть нелюбимое платье, жертвуя комфортностью во имя «высокого слова». К тому ж новые босоножки натерли оба больших пальца – хоть плачь! Когда Рена-ханым стояла на автобусной остановке, мимо пронесся сын на своем автомобиле. Не заметил ее, ожидающую битком набитую маршрутку. А после, уже здесь, неподалеку, невестка приветливо помахала ручкой из другого автомобиля.
– Могла бы остановиться и предложить подвезти! – улыбнувшись и помахав в ответ, сердито подумала Рена. – Позолота не осыпалась бы.
Спускаясь по парковым ступенькам, она несколько раз остановилась, пытаясь уложить поудобнее в обуви горящие от боли пальцы. Когда Рена в очередной раз замедлила шаг, остужая потертые пальцы, она увидела упавшую женщину точно в таком же, как у нее, черном в белый горошек платье. Шагай Рена чуть быстрее, их пути пересеклись бы именно в том месте, где упала женщина.
– Ноги отнялись у бедняжки… – сочувственно качали головами столпившиеся вокруг люди. Рядом с ней что-то говорили сквозь плач две девушки и ревел карапуз. Оттого, что на женщине было такое же платье, Рене стало не по себе. Она не осталась стоять среди сострадательно шепчущихся – разве это поможет? – и поспешила уйти. Весь оставшийся путь Рена-ханым, огорченная увиденным и забывшая о своих неучтивых детях, думала о той несчастной женщине, в один миг утратившей способность передвигаться на собственных ногах.
“Вот как бывает! Пусть и не подвез никто, и нет денег на такси, и ноги болят до смерти, но все же целы. И несут меня, слава Богу. А ей-то каково – не дай Бог!” – думала Рена, подходя к дверям редакции и уже почти смирившись с болью растертых в кровь ног. Даже предстоящая встреча с критиком-женобрюконена-вистником уже не так пугала.
И вправду, с той женщиной, с Асей, стряслась страшная беда. Какой смысл искать виновных, корить себя или ругать окружающих, если беда уже случилась? А ведь ее могло и не быть, как знать…
* * *
– Мама, ты же взрослая женщина! Бабушка уже, а ведешь себя, как глупая влюбленная девочка. Это неприлично, в конце концов! Вставай, одевайся и пойдем, прогуляемся немножко, – смягчила дочка поцелуем в щеку свое нравоучение, вызывавшее у матери боль и стыд одновременно. Как черствы и жестоки могут бывать дети!..
– Мне не хочется. Да и чувствую я себя неважно, – ответила она, запнулась и, как бы оправдываясь перед собственной 18-летней дочерью, уточнила: – Спина болит и какие-то странные судороги в ногах…
– Захочется! Так и будешь до смерти оплакивать разлуку со своим «мундиром»? Престарелая Джульетта, блин… – начала было дочь вводить новую болезненную инъекцию. Но мать прервала ее, на этот раз жестче.
– Не твое дело! – сурово, но с болью в глазах сказала Ася-ханым. – И прекрати лепить «блины» к словам. Уж и говорить по-человечески разучились! Я, действительно, плохо себя чувствую. Лучше полежу немного.
– Да брось, мамуся, не обижайся! Я ведь тебя люблю. Уж, поверь, побольше твоего полковника… – дочь снова чмокнула ее в щеку, поймав неприязненный взгляд, и попыталась сменить тему. – Севда с Зикой придут в двенадцать гулять на Площадь Фонтанов. Одевайся, прогуляемся с ними, а потом проскачем по магазинам, купим тебе голубой шарфик. Ты же хотела?
Севда – это старшая дочь Аси, а Зика ее трехлетний внук, в котором бабушка души не чаяла. Знает, чертовка, чем брать! Когда друг Аси-ханым, отставной полковник, сделал ей официальное предложение, обе дочери вдруг превратились в черствых злыдней и выразили свое абсолютное несогласие. А старшая и вовсе выдвинула ультиматум: если мать повторно выйдет замуж, будет лишена свиданий с внуком – пусть рожает себе новых детей, раз этот «мундир» ей дороже собственных дочерей! Рожать себе «новых детей» в сорок пять лет Ася, конечно, не собиралась. Она предпочла принять одинокую старость, нежели потерю дочерей, внука и отказала Вахиду.
– Ася, ты хорошо подумала? – едва вымолвил побледневшими губами Вахид. Его ладонь дрожала, и он убрал ее со столика. Они сидели в кафе на набережной. Букет пурпурных роз лежал у Аси на коленях и тоже подрагивал. – Я ведь не собираюсь отлучать тебя от дочерей. Твои дети – мои дети. Но пойми, у них своя жизнь, и очень скоро они окончательно упорхнут от тебя, уйдут в свои заботы и радости. Будут вспоминать о тебе лишь по большим праздником. Как и все мы, собственно. Когда умер отец, мне было шестнадцать лет, а братьям чуть больше. Мама, опасаясь нашего осуждения и неприязни, больше замуж не вышла, хотя и имела шансы. А потом мы все выросли, опекаемые ее заботой и любовью, и разлетелись кто куда. Старших братьев мама в последний раз видела за два года до смерти. Я чаще звонил ей, чем заходил… Мне казалось, что она готова целовать телефонную трубку, слыша мой голос. А когда навещал ее, бедная женщина от радости забывала слова… Асенька, родная, я тебя очень люблю! Мы подставим друг другу плечо в старости, а твои дочки когда-нибудь обязательно поймут и оценят это. Подумай хорошенько, не спеши с отказом…
Когда Ася-ханым рассказала об их встрече дочкам, пытаясь убедить в искренности Вахида, они взвились, точно дикие кошки.
– Лицемер! – шипела старшая дочь. – Сиделка ему нужна в старости, чтоб горшки таскать! Ему сколько лет, шестьдесят пять? Да он тебе в отцы годится! Ну, встречались и встречайтесь себе на здоровье. Неужели обязательно в ЗаГС?
– У него хорошая пенсия, и он хотел бы оставить мне ее после… смерти, – пыталась Ася-ханым урезонить дочь.
– Прагматик, блин! – злобно усмехнулась младшая. – Значит, Севда права, он чем-то болен?
– Он абсолютно здоров! Но в жизни всякое бывает… Вахид хороший!– вскрикнула Ася, окончательно запутавшись.
– Мама, не выставляй себя посмешищем! – презрительно скривив губы, холодно сказала Севда. – Ты обо мне подумала? Как отнесется к этому родня моего мужа? Ты представляешь, сколько уколов я получу от свекрови? У меня ведь не станет жизни! И к чему это приведет? К разводу!
Ася растерянно дергала подбородком, в горле застрял противный ком. Объективно она понимала, что свекровь ее старшей дочери ничем не хуже своей невестки и что потакать во всем такой капризной и избалованной девице довольно сложно. Севда – девушка с гонором, отношения со свекровью у нее не складывались именно по этой причине, а не потому, что «свекровь у нее мегера». Но субъективно – Ася очень любила своих девочек и часто была слепа в этой любви.
– Зато у нас будет новый папочка с золотыми пуговками на зеленом мундирчике и звездочками на погончиках! – съязвила младшая дочь. – Картошка в мундире, блин! А дома уже нельзя будет ходить без халата. И по утрам ждать своей очереди в ванную, пока «папочка» побреется…
– У Вахида есть своя квартира…
– Ах, вот как! Так значит, ты собиралась бросить меня одну, на произвол судьбы и уйти жить к своему отставному «сапогу»?
– Как же тебе угодить?..
– Послать его ко всем чертям! Мы же не против ваших встреч. Наслаждайтесь друг другом сколько душе угодно, но в ЗаГС – НЕТ! – жестом Марии-Антуанетты завершила младшая дочь.
Ася-ханым поднялась с дивана и молча, едва волоча ноги, отправилась в кухню. Накапав в стакан сорок капель корвалола, она выпила залпом и стала разогревать обед. У нее больше не было ни желания, ни сил продолжать бессмысленный спор с дочерьми. А они уже стояли у входа в кухню и изумленно переглядывались: неужели мама не собирается более убеждать их в том, что ее Вахид – просто душка и очаровашка и абсолютно бескорыстен в своих планах?
– Есть будете? – спокойно и безразлично спросила Ася-ханым.
– Да, – в один голос ответили дочери и снова переглянулись.
Когда девочки ушли, Ася перемыла посуду, прибралась в кухне и комнате, выпила еще тридцать капель «коктейля» и прилегла на диване. Зазвонил телефон. Ася выдернула из розетки шнур. Ни с кем говорить не хотелось. Кто это мог быть? Вахид? Ничего, успеется еще «обрадовать».. Подруга, которая после допроса станет убеждать ее «не идти на поводу у детей и подумать о себе»? И она с этим согласна. Но не сможет иначе. Не стоит самобичеваться. И так больно…
* * *
Наконец, поддавшись уговорам дочери, Ася-ханым стала собираться на прогулку.
– Надень брюки и желтую блузу, – посоветовала дочка, увидев, что мать вынула из шкафа свое любимое черное платье в белый горошек.
– Оно мне подходит и в нем удобно, – решительно отклонила совет дочери Ася и, вздохнув, добавила: – Ты же знаешь, я люблю это платье.
– Дело твое, – пожала плечами дочь. Что ж, любовь к платью – это не любовь к мужчине, она не возбраняется.
Они выходили на Площадь Фонтанов со стороны кинотеатра. Увидев их издалека, маленький сын Севды замахал бабушке ручкой. Та улыбнулась, забыв мгновенно свои печали, и поспешила навстречу малышу. И тут, будто споткнувшись, Ася упала, хватаясь руками за воздух. Ей показалось, что кто-то сильно толкнул в спину. Но позади никого не было.
– Мама! – испуганно закричала подбежавшая Севда. – Мама! Помогите! А-а-а!
– Мама, поднимайся! – шептала младшая дочь, растерянно глядя, как под матерью расползается лужица мочи.
– Я не м-м-могу… – с трудом ответила Ася. Вокруг стали собираться люди. Кто-то притащил из магазинчика стул. Женщину приподняли и посадили, но она сползла со стула. Дочерям пришлось поддерживать ее. Плакал, хватаясь за мамину юбку, маленький Зика.
– Что, что случилось? – слышалось в окружающей их толпе зевак. – Ее обокрали?
– Нет. У бедняжки отнялись ноги…
– Вот беда так беда, – качала головой старушка с кошелкой и со знанием дела советовала: – «Скорую» зовите! Помогай Бог! Авось выкарабкается…
– Мама… мама… ну, пожалуйста, вставай… пошли домой… – бестолково шептала совсем юная девушка, – ну, пожалуйста, вставай…
ОТПЕЧАТОК ТРЕХ ВЕКОВ
Тело почтенной тетки Юстинианы было таким ветхим, что моментально затекало во все пустоты глубокого квадратного кресла, отчего она и сама принимала форму квадрата. Медленно передвигаясь по комнате, загребая воздух правой рукой, она напоминала незаполненный до конца дряблый кожаный мешок, в котором многие десятилетия назад потерявшая упругость еще более дряблая мышечная масса перетекала из одной стороны в другую. Эта масса каким-то чудом держалась на костях, а кости непостижимым образом не рассыпались.
– Сколько ей лет? – спросил я у Раськи, праправнучатого племянника тетки Юстинианы.
– Затрудняюсь ответить. Говорит, что утирала подолом нос самому кайзеру Вильгельму, – усмехнулся Раська. – В остроумии ей не отказать. Все остальное – перед глазами. Но ум ясен, а язык что твой «Калаш».
– Зачем она носит такие тяжеленные серьги? Мочки до плеч оттянулись – а все туда же.
– Э-э, она и спит в них. Подарок первой любви и последнего мужа. Она в юности была влюблена в мальчишку, который носил овощи с базара для их кухарки. Во второй раз встретила его восьмидесятилетним вдовцом и персональным пенсионером (отставная партийная номенклатура). Тетка Юстиниана к тому времени и сама двух мужей схоронила. А через год и этот помер. Погоревала, погоревала и с тех пор дала обет безбрачия. В конце семидесятых, когда ей было восемьдесят…
– Так ей уже за сто?!
– Если так дальше пойдет, и за двести наступит. По-моему, смерть забыла о ней. А вообще, она прикольная старушенция, с ней не соскучишься. Информационный блок, ходячая энциклопедия!
– Не мудрено при такой затяжной жизнестойкости. Юстиниана – это ее настоящее имя или как?
– Настоящее. Наверное, ее так древнеримский легионер нарек во время первого палестинского похода.
Тут мы заметили, что субстанция, заполняющая квадратное кресло тетки Юстинианы едва заметно всколыхнула складками допотопного когда-то синего сатинового платья. Старушка приоткрыла веки и сфокусировала на нас свои обесцвеченные годами глаза. Интересно, какого они были раньше цвета?
– Когда-то они были синие… – тихо произнесла женщина.
У меня от неожиданности похолодели внутренности: старуха читает мысли! Но я тут же успокоился, поняв, о чем идет речь. Она продолжила: – Я говорю о васильках на обоях. Выгорели…
– Добрый день, тетя Тина, – учтиво заелозил Раська. – Извините, мы потревожили Вас.
– Зря волнуетесь, молодые люди, меня уже давно ничего в этом мире не тревожит. Зажилась…
– Не говорите так, тетя Тина. Вы наша гордость! Не каждый похвастается, что родился в ХIХ, прожил весь ХХ и … – Раська замялся.
– …и умер в ХХI веке, – продолжила за него старушка. – Что же ты замолк?
– Я, конечно, реалист, – заговорил взбодренный ею Раська, – все когда-нибудь умирают. Но буду искренне рад каждому последующему году Вашей жизни. Вы же можете заявку в Книгу Гиннеса подавать!
Последние слова юноши рассмешили почтенную Юстиниану. Ее смех поразил меня – он был так чист и звонок, что я невольно вздрогнул. Это был смех молодой, полной жизни женщины, а не той, что сидела перед нами и напоминала отпечаток трех веков.
– Тетя Тина, – обратился я к ней, восхищенный переливчатым смехом, источающим жизнь. – Вы так звонко смеетесь, что трудно поверить в ваш возраст. Будто колокольчик!
– «Мой волшебный колокольчик», – так называл меня папа… – вздохнула старушка и замолкла.
– Извините, – спохватился я и чуть сам не рассмеялся, вообразив, какую античную древность мог представлять собой батюшка этой долгожительницы, будь и он жив сейчас.
– Это мой однокурсник, Таир, – наконец, представил меня Раська. – Я много рассказывал ему о Вас. Очень захотелось вас познакомить. Тем более, совет такого мудрого человека необходим этому придурку: девушка его, видите ли, бросила, страдает!
– Лет пятьдесят назад была в моде песенка с такими словами, – древняя Юстиниана снова вперила в меня свои почти прозрачные глаза, – «Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло». С другой стороны, мифический единорог был свиреп, ревнив и недальновиден. Единственная измена подруги (отсюда и единственный рог) привела к вымиранию вида. Олень гораздо меньше привередлив. Периодически обновляя рога, он обласкан эволюцией.
Короткий монолог старицы вызвал у Раськи приступ такого дурацкого хохота, что он чуть не захлебнулся излишками воздуха в глотке.
– Ну-ну, оборжался до икоты, – ткнул я его в бок кулаком. – А рассказать, как на днях девчонки провели? Как проторчал под дождем два часа? Как потом подарили тебе фотку с твоей мокрой тюленьей рожей?
– Ладно, не дуйся, – Раська поспешил замять тему неразделенной любви. – Тетя Тина дала тебе сразу два ценных совета. Оба вполне приемлемы. Я же говорил – это клад, а не женщина. Представляешь, заявились к ней недавно из Германского посольства. Наш сосед там работает, рассказывал о ней. Предлагали выезд в фатерлянд и массу льгот и почестей. Но тетя Тина отказалась. Патриотка! А вот Мишка Эрде еще десять лет назад уехал.
– Прохвост он, твой Мишка! – возмущенно хлопнула рукой о подлокотник тетя Тина. – Какой же он немец? Я ж говорила вам, что «Эрде» не фамилия, а инициалы – «Р.Д.» Предка его, бочара, звали Роман Дрюкин. Он на бочках вензеля выжигал со своими инициалами. Разбогател малость, стал поставщиком тары для немецкой рыбной артели. Так к нему «Эрде» и прилипло. Теперь вот праправнукам сгодилось. Для аферы. Повезло, что созвучно с немецким словом.
– «Земля», – кивнул я, стремясь показать свою осведомленность.
– Verstehen Sie Deutsch, Yüngling? – улыбнулась женщина.
– Etwas.
– А я уже стала забывать… – задумчиво протянула старая фрау. Помолчав несколько секунд, она продолжила тихим, убаюкивающим голосом древней скази-тельницы. – Старость предупреждает о своей близости не болезнями, а все чаще возникающими в памяти картинами детства, тоской по старому дому, радостью, которую испытываешь, наткнувшись на какую-нибудь милую сердцу вещицу. А знаете, как напоминает о себе смерть? Смертью других…
– Что с Вами, тетя Тина? – с искренней тревогой спросил Раська. – Впервые слышу от Вас разговоры о смерти.
– Это оттого, что я стала рассуждать вслух. Последнее время мне частенько кажется, что душа болтается в пустоте, как вода в невесомости. До сих пор удавалось поймать и запихнуть ее обратно в сосуд. Дурной сигнал. Для меня, разумеется. А что это Хаджи-Муршуд за внуком с ремнем гоняется?.
– Третий день уже, – засмеялся Раська. – Алишка уверяет деда, что люди произошли от обезьян. И ты, говорит, дед, тоже. А дед-то недавно из паломничества вернулся. Втолковывает внуку, что в обезьян Бог превращает неугодных Ему. Никак не могут выяснить, кто прав.
– Оба, – утвердительно кивнула головой тетя Тина. – Скажи им, пусть не ссорятся: сперва Бог сотворил обезьяну, а после из нее образовался человек. Гладко сказала? И по науке, и по писанию. Что до меня, я склонна считать человеческие существа космически-земным гибридом. Не очень удачным. Однако, легко отрекся Хаджи-Муршуд от своих прежних уверований. Он ведь прежде, как я помню, учителем биологии был.
– По правде говоря, и я бы предпочел видеть своим предком более достойное существо. Никогда не любил обезьян, – сказал я, чем, кажется, доставил удовольствие старушке. Она закивала головой.
– Да-да, и я их всегда считала препротивными тварями. Не поверите, но даже крысы кажутся мне менее омерзительными.
Мы еще долго говорили об обезьянах, то отвергая теорию Дарвина, то уступая ей. Говорили еще о многом и раскланялись довольно поздно, поймав себя на мысли, что для такого старого человека долгие беседы утомительны.
– О чем вы говорите, молодые люди! Непростительно терять время на тихую дрему в моем возрасте. Приходите почаще. Я знаю столько всяких историй! Не уносить же мне их с собой на тот свет. Вот и фрау Хильда зачастила, чуть ли не каждый вечер навещает. Сидит, молчит, улыбается… Видно, и впрямь совсем мало времени осталось…
– А кто такая фрау Хильда? – поинтересовался Раська. – Не припоминаю, чтоб мы с ней встречались.
– Фрау Хильда – моя нянечка. Милейшая была дама. Правда, строгая очень. С недавних пор стала появляться тут. Усаживается в кресло и смотрит на меня. Ласково так смотрит, как в детстве, – заметив недоуменный взгляд Раськи, тетя Тина добавила: – Да ты не пугайся. Я не спятила.
Мы договорились навестить тетушку Юстиниану в субботу. Но не суждено было: не зря фрау Хильда «зачастила» с визитами… Через два дня Раська сообщил мне, что тетя Тина умерла.
– Будто уснула в кресле…
Ее похоронили по христианским обычаям, поминали по мусульманским. Сам Хаджи-Муршуд с готовностью согласился читать «ясин» по усопшей соседке каждый четверг. И хотя я виделся с покойной лишь один раз, но и меня огорчил ее уход. Я сожалел, что не был знаком с ней раньше и не успел выслушать ее замечательные истории, но решил для себя, что когда-нибудь напишу повесть о прохвосте Дрюкине, о мальчишке, разносчике овощей, ставшем большевистским деятелем, о мудрой тетушке Юстиниане, перепрыгнувшей через двадцатый век, будто через мутный ручеек.
|
|