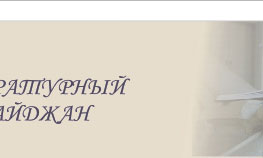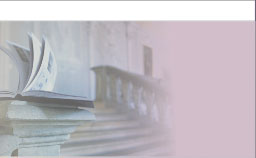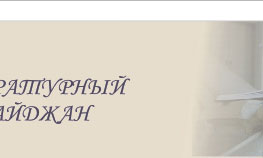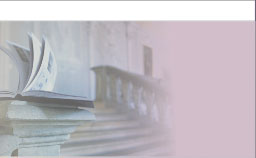|
АЛИ ИЛДЫРЫМОГЛЫ
ЖУРНАЛИСТ ПОНЕВОЛЕ
Роман
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ Ι
Мысли у Аллахверяна-киши путались. Внешне невозмутимый, попыхивая трубкой, размышлял старик, как бы ему поступить. Однако, сколько ни прикидывал так да этак, определиться в своём решении никак не мог. С одной стороны, думал он, конечно, было бы хорошо, если б Назим продолжил учение: усвоил бы науку, выдвинулся бы, глядишь, известным человеком стал бы, прославил бы род свой и семью. Но, с другой стороны, боязно было старику за мальчика, ведь тот был единственный его наследник. И то сказать, рассуждал Аллахверян, время нынче неверное, вот уедет из деревни, а с ним напасть какая случится! Сам-то Аллахверян, он что – солнце, за гору закатившееся: сегодня землю пашет, а завтра в землю ляжет. Дому же остаться без хозяина никак нельзя: очагу без возжигателя быть не должно!
Назима же только-то и заботила, что мысль о поступлении в вуз. И в этом его намерении домашние, за исключением отца, дружно юношу поддерживали. Всем известно было, что Назим – малый смышлёный. С первого и по десятый класс ходил он в круглых отличниках. Когда вручали ему аттестат, директор школы во всеуслышание заявил – дескать, случись у Назима надлежащий наставник, парень непременно добьётся выдающихся успехов. В том же духе высказалась как-то раз и тётушка Фатьма – старейшина семейства, ревностная блюстительница веры. Вдова старшего брата Аллахверяна – Эмрала, погибшего в армяно-азербайджанскую войну, она была в доме непререкаемым авторитетом. Однажды, когда всё семейство собралось за столом для вечерней трапезы, старуха, поправив на лице яшмак и обняв затем Назима, изрекла:
– Аллахверян, не противься желанию мальчика продолжить учёбу. Конечно, было бы лучше, если б он всегда находился при нас. Однако известно, что лишь море взрастит из малька рыбину, как известно и то, что курёнку вовеки орлом не парить. А потому, доверившись Аллаху, не чини парню помех, но самолично снаряди его в путь.
К Назиму Фатьма была привязана даже сильнее, чем к собственным двоим сыновьям. Она заменила племяннику мать, ушедшую из жизни, когда тот был совсем ещё крошкой.
Аллахверян не стал возражать невестке.
Поутру он хорошенько почистил скребком своего коня Гамера, которого намедни наново подковали. Земля в округе была раскислой от дождей, и старик тщательно расчесал коню хвост. Когда отец и сын вместе с быстроногим Гамером вышли за ворота, Фатьма возгласила благое напутствие и плеснула им вслед водой. С тем все трое и отправились в путь.
Аллахверян вовсю настёгивал коня нагайкой с аршинной рукоятью, между тем как Гамер, вытянув вперёд шею, с проворством куропатки мчал по извилистым горным тропам. Лысые, жмущиеся одна к другой скалы, грохочущая на дне ущелья горная река, лес на противоположном её берегу, лёгкий ход Гамера – всё это вместе привело Аллахверяна в неизъяснимое упоение. Припомнились старику былые его деньки. Надвинув папаху на лоб, он негромко пропел:
По всему Аразу – мели-островки.
Пьют, знай, ангелочки воду из реки.
Ради вас пусть буду порван я в клочки, –
Все мои молитвы обращаю к вам!
С бесстрастным видом сидевший позади отца, на конском крупе, Назим не проронил при этом ни слова, однако напетое родителем запечатлелось в его сердце навсегда.
Аллахверяна, всечасно ощущающего тёплое дыхание сына на пропахшей потом своей спине, преисполняло чувство опоры, подобное тому, какое порождает в людях вид могучих гор. Натянув поводья, старик промолвил:
– Сынок, место это зовётся ущельем Азада. И нигде в мире нет такого чистого воздуха, как здесь и у нас в Чичекли! Жаль только, отстоит далеко село наше от дорог. Электричества и телефонной линии к нам не провели, машинам сюда не проехать, а до железной дороги чёрте знает сколько вёрст! Когда бы не это, края, благодатнее нашего, было бы не сыскать. Последнее время глупейшая завелась мода: все, у кого ноги есть, повадились бежать в город. Только что в том проку?! Да если б мне платили по червонцу в день, я и тогда бы ни за что там не остался. Я не утверждаю, что в городе так уж плохо, просто всякой ягоде свой кусток положен. Вот и мы с тобой корешками в этой земле проросли, и пересаживать нас на новое место – затея пустая. Возьми наших сельчан – в Чичекли и стар, и млад одинаково крепки, что твой кузнечный молот. Ни врачей отродясь не знают, ни лекарств и жи-вут многие свыше ста лет. Что ж ещё-то может быть нужно человеку? Что здоровья-то подороже может быть?
Когда подступили они к крутому спуску, Аллахверян соскочил с седла и передал повод Назиму. Аллахверян был знатоком в лошадях и отлично понимал, что по этаким откосам коню следует идти налегке, а иначе тот не ровен час оступится. Приблизившись к видневшейся впереди мельнице, они встретили человека средних лет, погонявшего нагруженного мешками с мукой мула. С приниженным видом тот произнёс:
– Приветствую тебя, Аллахверян-киши!
Аллахверян смерил недобрым взглядом оробелого путника, краснолицего и густоусого.
–- Да отвратится Аллах равно от приветов твоих и речей! – проговорил он и, сплюнув, отвернулся.
Лицо у хозяина мула попеременно то пунцовело, то белело. Понурившись, он в молчании продолжил свой путь. Над узкой тропой повисла вязкая тишь.
Давешний эпизод произвел на Назима удручающее впечатление. Неожи-данная грубость, изъявленная Аллахверяном хозяину мула, хлестнула юношу по сердцу. Удручённый, он низко опустил голову, подумав про себя: «Лучше б не встре-тился нам этот бедняга. Зря отец так себя с ним повёл».
– Отец, – обмолвился он, не пытаясь скрыть своей досады. – Этот человек так вежливо поздоровался с тобой, ты же…
Аллахверян, всё ещё разгорячённый, проигнорировал вопрос. Назим же, видя, в каком тот состоянии, решил не упорствовать в своём любопытство. Перейдя через деревянный мост, они вступили в долину реки. И тут Аллахверян неожиданно обернулся к сыну:
– Что ты знаешь! Неужто думаешь, будто отец твой – невежа?! Тебе и невдомёк, что это за сукин сын! Он из села, что на том берегу. Их и наши пастбища сопредельны. Придёт наше стадо на выпас, так, веришь ли, поголовье прямо на глазах у пастухов тает, как снег в теплынь. Случилось, со стельной коровы шкуру содрали, так никто того и не заметил. В прошлый месяц, вечером того дня, что в село наведался на верблюде торговец керосином, я прилёг отдохнуть и только-то опустил голову на подушку, как вдруг слышу стон. Проснулся: вижу, собака рвётся с цепи. Поспешно набросил на плечи пиджак, выбежал в сени, глядь – около конюшни перепрыгнул через наш плетень некий детина и затем сиганул прочь. Я босиком за ним. Уж почти догнал его, как он обернись назад да и выстрели в мою сторону аж два раза подряд. Хорошо, что промазал! Ещё когда он по изволоку спускался, я признал в нём того самого разбойника, пропасть ему! У него ещё двое таких же, как он, беспутников-братцев имеется, всей тройкой сызмальства воровством пробавляются. Все покражи в окрестных сёлах - их рук дело. С века ресницу, моргнуть не успеешь, уворуют. Тесто, из которого они вылеплены, на чистой отраве замешано. Ишь ты, в овечью шкуру, волчара, обрядился: «Здравствуй, Аллахверян!..» Да провалиться ему со своим приветствием! Уж сколько лет разоряет наше село! Ты зелёный ещё, многого взять в толк не умеешь. Не приветствием меня почтить было его намерение, но выяснить, узнал ли я в нём того ночного ворюгу. Ну я и дал ему знать, что и как, и, полагаю, он всё прекрасно понял.
Только теперь, когда Назиму стало ясно, почему отец так резко повёл себя с незнакомцем, на сердце у юноши отлегло, и он ощутил вдруг в душе блаженные покой и лёгкость.
Тропа пересекала лес и выходила на открытый луг, с которого виден был вдали окружённый белыми и жёлтыми горами, утопающий в зелени деревьев районный центр. Аллахверян показал рукой на небольшой, в десять-пятнадцать дворов, ближайший выселок.
– Некогда в Чичекли у нас служил учитель Фархад, так вот родом он был оттуда. В то время тебя ещё не было на свете. Он преподавал арифметику. Поначалу, когда Фархад только что приехал, ему негде было жить. Гляжу, все воды в рот понабрали, ну я и взял его к нам на постой. Деньков семь-десять пожил у нас, а после я переселил его в новый флигелёк, что соорудил для моих племянников. Подумал: человек как-никак вдали от родных мест, и Аллаху будет благоугодно, если бедолага не останется без крыши над головой. Позднее он перевёз туда жену и ребятишек. Ровно три года жили мы бок о бок. Как-то, между делом, заговорил он насчёт платы за жилье. Только он об этом заикнулся, как я с укоризной глянул на него: «И не стыдно тебе, – говорю, – Фархад-муаллим, речь о таких вещах заводить? Неужели же Аллахверян до того дошёл, что не просто с гостя – пришельца из чужих краев, но с человека, детей наших обучающего, деньги брать станет?! Сболтнул глупость – остерегись её повторить, заверни в палас и подальше упрячь. А не то я здороваться с тобой перестану!» Бедный и сам не рад был, что затеял этот разговор. Сейчас-то он пребывает в мире вечной благодати, это мы, горевые, обретаемся в юдоли греха. Скажу тебе: и как учитель, и как человек был он личностью незаурядной. Имелся у него младший брат – Велияддин, парень семи пядей во лбу. Иногда навещал Фархад-муаллима. Каждый раз, когда тот отбывал домой, я провожал его верхом на моём коне. Так вот, слыхал я, этот самый Велияддин сделался ныне знатным человеком. Люди сведущие говорят, дескать, неподалёку от Карабаха открылся новый педагогический институт и будто бы в том институте Велияддин начальником. – Аллахверян на мгновение задумался, после чего, ёрзнув в седле, продолжил свою речь: – Ну и дела творятся в мире! Подумать только, какая прорва лет прошла! Вот и Фархад-муаллим давно уж как помер, а Велияддин, надо думать, встретит меня и не признает! Да, едва ли признает! О нём же слухи приходят к нам исправно. Ведь, что ни говори, наших краёв человек. Сказывают, много землякам помогает. В точности, как брат его – Фархад, тот также каждому рад был удружить. Когда он у нас учительствовал, в селе чуть не боготворили его. До сих пор при упоминании его имени чичеклинцы молятся за упокой его души...
Солнце стояло уже в зените, когда отец и сын прибыли, наконец, в райцентр. Тёплый ветерок слегка колыхал рисовую ниву, над которой то там, то здесь можно было видеть парящих аистов. Отшлифованные речной водой береговые камни источали жар, подобно растопленному тендиру. Гамер изрядно вспотел. Привыкшие к горной прохладе, оба чичеклинца плохо переносили зной низины. Подтянув повод, Аллахверян направил коня вправо – на нижнюю дорогу, которая вела прямиком к располагавшейся на окраине города автобусной остановке.
Скопившийся тут народ с нетерпением ожидал автобуса до железнодорожной станции. От группы отделился пожилой мужчина, зашагавший к двоим чичеклинцам.
– Аллахверян-киши, что делаешь ты здесь в самый разгар лета? Вот и конь твой, гляжу, едва на ногах стоит, – сказал он.
Аллахверян сейчас же приободрился, лишь только узнал в говорящем давнего своего товарища – врача.
– Да сгинет лихо, доктор, да пребудет с тобой благодать! – откликнулся Аллахверян. – Как только признал я тебя, сейчас же подумал: всемилостив Всевышний, помогающий чадам своим в их делах! Вот Назим наш едет экзамены сдавать, провожаю его в путь. Парень он сельский, в городе никогда не бывал, и, веришь ли, со вчерашнего дня места себе не нахожу – всё думаю, как-то отпущу его одного. Хоть бы, думаю, также случилась оказия в город у кого-нибудь из наших знакомых, кому мог бы поручить я моего мальчика. Право же, это истинная удача, что именно тебя послал нам Аллах!
Доктор был человек услужливый, к тому же многолетняя дружба связывала его с Аллахверяном, в доме у которого не раз встречал он самый радушный приём. Потрепав за худую шею Назима, он заверил товарища:
– Будь покоен, Аллахверян, Назим мне как сын. Так что считай, ты самолично сопровождаешь его в Баку. Сейчас пекло несусветное, небо жаром адским исходит, а потому не резон тебе здесь долее задерживаться, ведь неизвестно, когда ещё наш автобус прибудет.
Поцеловав в лоб сына, Аллахверян коротко его напутствовал:
– Поезжай, счастливого тебе пути! Будь внимателен, вступая в вагон. О нас не беспокойся. Баку – место шальное, так что не слишком-то в одиночку по городу шатайся. Будет возможность, пойди учиться на педагога или на врача, чтобы после работать в родном селе. Тут и присмотр за тобой надлежащий будет...
Аллахверян обернулся к старому товарищу, ещё раз препоручил сына его заботам и, заметно успокоившийся, поскакал обратно в Чичекли.
Гамер нёсся к родным горам точно на крыльях, между тем как Аллахверян пребывал душой на райцентровской автобусной остановке, подле его ненаглядного сыночка-кровиночки.
* * *
По приезде в незнакомый шумный город Назиму показалось, будто попал он в волшебный мир из сказок его детства. Не без труда, при активном посредстве доктора, сумел разыскать он своего родственника по отцу – Фаттаха, снимавшего однокомнатную квартиру в одном из бакинских околотков – Даглинке. Уже более пяти лет, один-одинешенек, проживал Фаттах в доме с неоштукатуренными стенами и узкой дощатой верандой. Поэтому понятна была его радость, когда нежданно-негаданно одним ранним утром увидел он пожаловавшего к нему Назима. Фаттаху почудилась, будто с собою тот принёс свежайший воздух их родного Чичекли. Рассказу Назима о житье-бытье на селе Фаттах внимал, совершенно позабыв о своих жалком тесном жилище и тягостном одиночестве. Воображение отнесло его на много лет назад, и в мыслях своих влюблённо озирал парень чичеклинские окрестности: озеро Гасанали, пик Балабан, долину Агджа, утёс Гиблее, пещеру Невест, ключ Язы, слыша вкрадывающиеся в хрустальную тишину предгорья переливы тростниковой свирели, от которых сладко щемило сердце...
Фаттах был много старше Назима. Окончивший ремесленное училище, он ра-ботал слесарем на одном из бакинских заводов, при этом заочно учась в столичном Институте нефти и химии. Высокого роста, спокойного нрава, говорящий всегда толково и по существу, Фаттах имел своею страстью литературу и, случалось, сам пописывал стихи. В речах его частенько проскальзывали нотки недовольства устройством общества, в котором он принуждён был жить.
…С того дня, как в его доме появился Назим, Фаттах забросил все свои дела и, добровольный гид, неотступно сопровождал его повсюду. Вместе с родителями поступавших в вуз с утра до вечера простаивал Фаттах на университетской эспланаде в ожидании, когда с очередного экзамена вернётся Назим. Товарищи-абитуриенты, успевшие немного узнать чичеклинца, единодушно признавали за ним исключительные способности и редкостную отзывчивость – многие лишь благодаря его подсказкам умели справиться с экзаменационными заданиями. Сам же Назим отвечал по любому билету, лишь только его прочитывал, без какой-либо подготовки. Вузовские педагоги поражались познаниям сельчанина. Некоторые не без раздражения констатировали: вот, дескать, деревенщина из Богом забытого захолустья, а какую голову имеет!..
Наконец приспело последнее испытание – экзамен по иностранному языку. Поскольку, помимо членов экзаменационной комиссии, на нём присутствовал проректор, атмосфера в аудитории была не в пример прошлому напряженной. В душе все абитуриенты просили Бога услать куда-нибудь подальше этого устрашавшего их типа. Между тем проректор и не думал покидать аудиторию. Попеременно он то внимательно всматривался в экзаменационные листы, то о чем-то тихо переговаривался со своими коллегами.
Неизменно занимавший место в переднем ряду, одетый в дорогой костюм, юноша с лицом баловня – Сервер – с откровенной завистью твердил Назиму:
– Эх, сподобило бы меня этак процентами десятью от твоих знаний!
Долго просидел Сервер, бессмысленно вперившись в вытянутый им билет. Потом нерешительно шагнул по направлению к экзаменаторам. Не успел он и рта раскрыть, как те наперебой задали ему пару-тройку простеньких, не значившихся в билете вопросов. Проректор нервно заёрзал на своём стуле.
– Похоже, знающий абитуриент, – сказал он и закашлялся.
Затем к Серверу обратился председатель комиссии:
– Достаточно, верни билет и ступай.
Коротко глянув на членов комиссии, Сервер поблагодарил их, после чего, не тая усмешки, провожаемый исполненным довольства взором проректора, вышел из аудитории.
Настала очередь Назима. Предыдущие экзамены он сдал сплошь на «отлич-но» и «хорошо», поэтому сейчас даже оценка «удовлетворительно» обеспечивала ему поступление в вуз. Однако едва он начал отвечать на свой первый вопрос, как его немедленно забросали дополнительными, несравненно более трудными.
– И откуда он такой взялся?! – пробурчал себе под нос проректор.
Однако, как ни старались экзаменаторы, сбить Назима с толку им не удалось.
– Кажется, этот юноша вознамерился убедить нас в том, что он подлинно кладезь премудрости, хи-хи, – язвительно заметил проректор.
В желании потрафить ему члены комиссии со всей страстью принялись путать и смущать Назима, а председатель, тот, презрительно скривив губы, заявил парню:
– Что-то больно ты рассусоливаешь. Слабо, видать, конкретно на вопрос ответить!
– Ладно, – бросил по-русски другой экзаменатор, уже по-азербайджански прибавив: – Не отнимай у нас время. Признайся, что к экзамену подготовился ты плохо...
…Назим был потрясен, не найдя своей фамилии в списке принятых в вуз. Точно пулю влепили ему между лопатками. Что-то горячее оторвалось от его сердца и скатилось в пятки. А в это время те самые абитуриенты, которым ещё накануне помогал он сдавать экзамены, поздравляли друг друга с поступлением, чуть не прыгая от радости. Назим оцепенело стоял посреди всеобщего этого ликования. Храм науки, который доныне представлялся юноше незыблемой святыней, враз обратился в руины перед мысленным его взором. Всё никак не умел парень осознать постигший его крах.
Фаттах, мягко взяв Назима за локоть, вывел его из толпы и отвёл в сторонку.
– Не расстраивайся, главное – это здоровье! – утешал он родственника. – Всякое в жизни бывает. Слава Богу, лет тебе не прибавилось, а университет по-прежнему на своём месте стоит. Не сладилось в этом году – случится в будущем! И не стоит здесь долее задерживаться, пойдём-ка лучше домой…
Порывы морского ветра прогоняли с накалённых солнцем городских улиц источаемый ими тяжёлый асфальтовый дух. Даглинский околоток объяла блажен-ная прохлада. Фаттах вынес на о
По приезде в незнакомый шумный город Назиму показалось, будто попал он в волшебный мир из сказок его детства. Не без труда, при активном посредстве доктора, сумел разыскать он своего родственника по отцу – Фаттаха, снимавшего однокомнатную квартиру в одном из бакинских околотков – Даглинке. Уже более пяти лет, один-одинешенек, проживал Фаттах в доме с неоштукатуренными стенами и узкой дощатой верандой. Поэтому понятна была его радость, когда нежданно-негаданно одним ранним утром увидел он пожаловавшего к нему Назима. Фаттаху почудилась, будто с собою тот принёс свежайший воздух их родного Чичекли. Рассказу Назима о житье-бытье на селе Фаттах внимал, совершенно позабыв о своих жалком тесном жилище и тягостном одиночестве. Воображение отнесло его на много лет назад, и в мыслях своих влюблённо озирал парень чичеклинские окрестности: озеро Гасанали, пик Балабан, долину Агджа, утёс Гиблее, пещеру Невест, ключ Язы, слыша вкрадывающиеся в хрустальную тишину предгорья переливы тростниковой свирели, от которых сладко щемило сердце...
Фаттах был много старше Назима. Окончивший ремесленное училище, он ра-ботал слесарем на одном из бакинских заводов, при этом заочно учась в столичном Институте нефти и химии. Высокого роста, спокойного нрава, говорящий всегда толково и по существу, Фаттах имел своею страстью литературу и, случалось, сам пописывал стихи. В речах его частенько проскальзывали нотки недовольства устройством общества, в котором он принуждён был жить.
…С того дня, как в его доме появился Назим, Фаттах забросил все свои дела и, добровольный гид, неотступно сопровождал его повсюду. Вместе с родителями поступавших в вуз с утра до вечера простаивал Фаттах на университетской эспланаде в ожидании, когда с очередного экзамена вернётся Назим. Товарищи-абитуриенты, успевшие немного узнать чичеклинца, единодушно признавали за ним исключительные способности и редкостную отзывчивость – многие лишь благодаря его подсказкам умели справиться с экзаменационными заданиями. Сам же Назим отвечал по любому билету, лишь только его прочитывал, без какой-либо подготовки. Вузовские педагоги поражались познаниям сельчанина. Некоторые не без раздражения констатировали: вот, дескать, деревенщина из Богом забытого захолустья, а какую голову имеет!..
Наконец приспело последнее испытание – экзамен по иностранному языку. Поскольку, помимо членов экзаменационной комиссии, на нём присутствовал проректор, атмосфера в аудитории была не в пример прошлому напряженной. В душе все абитуриенты просили Бога услать куда-нибудь подальше этого устрашавшего их типа. Между тем проректор и не думал покидать аудиторию. Попеременно он то внимательно всматривался в экзаменационные листы, то о чем-то тихо переговаривался со своими коллегами.
Неизменно занимавший место в переднем ряду, одетый в дорогой костюм, юноша с лицом баловня – Сервер – с откровенной завистью твердил Назиму:
– Эх, сподобило бы меня этак процентами десятью от твоих знаний!
Долго просидел Сервер, бессмысленно вперившись в вытянутый им билет. Потом нерешительно шагнул по направлению к экзаменаторам. Не успел он и рта раскрыть, как те наперебой задали ему пару-тройку простеньких, не значившихся в билете вопросов. Проректор нервно заёрзал на своём стуле.
– Похоже, знающий абитуриент, – сказал он и закашлялся.
Затем к Серверу обратился председатель комиссии:
– Достаточно, верни билет и ступай.
Коротко глянув на членов комиссии, Сервер поблагодарил их, после чего, не тая усмешки, провожаемый исполненным довольства взором проректора, вышел из аудитории.
Настала очередь Назима. Предыдущие экзамены он сдал сплошь на «отлич-но» и «хорошо», поэтому сейчас даже оценка «удовлетворительно» обеспечивала ему поступление в вуз. Однако едва он начал отвечать на свой первый вопрос, как его немедленно забросали дополнительными, несравненно более трудными.
– И откуда он такой взялся?! – пробурчал себе под нос проректор.
Однако, как ни старались экзаменаторы, сбить Назима с толку им не удалось.
– Кажется, этот юноша вознамерился убедить нас в том, что он подлинно кладезь премудрости, хи-хи, – язвительно заметил проректор.
В желании потрафить ему члены комиссии со всей страстью принялись путать и смущать Назима, а председатель, тот, презрительно скривив губы, заявил парню:
– Что-то больно ты рассусоливаешь. Слабо, видать, конкретно на вопрос ответить!
– Ладно, – бросил по-русски другой экзаменатор, уже по-азербайджански прибавив: – Не отнимай у нас время. Признайся, что к экзамену подготовился ты плохо...
…Назим был потрясен, не найдя своей фамилии в списке принятых в вуз. Точно пулю влепили ему между лопатками. Что-то горячее оторвалось от его сердца и скатилось в пятки. А в это время те самые абитуриенты, которым ещё накануне помогал он сдавать экзамены, поздравляли друг друга с поступлением, чуть не прыгая от радости. Назим оцепенело стоял посреди всеобщего этого ликования. Храм науки, который доныне представлялся юноше незыблемой святыней, враз обратился в руины перед мысленным его взором. Всё никак не умел парень осознать постигший его крах.
Фаттах, мягко взяв Назима за локоть, вывел его из толпы и отвёл в сторонку.
– Не расстраивайся, главное – это здоровье! – утешал он родственника. – Всякое в жизни бывает. Слава Богу, лет тебе не прибавилось, а университет по-прежнему на своём месте стоит. Не сладилось в этом году – случится в будущем! И не стоит здесь долее задерживаться, пойдём-ка лучше домой…
Порывы морского ветра прогоняли с накалённых солнцем городских улиц источаемый ими тяжёлый асфальтовый дух. Даглинский околоток объяла блажен-ная прохлада. Фаттах вынес на обращенную к морю свою маленькую веранду два старых стула. Желая отвлечь Назима от тягостных мыслей, он завёл разговор о чём-то постороннем и даже прочёл последние из написанных им стихов. От минуты к минуте хмурое лицо Назима делалось всё более бледным. Фаттах между тем не оставлял попыток разговорить родственника.
– Не обидишься, если я кое о чём спрошу тебя? – спросил он.
– Нет, конечно.
– Скажи мне тогда, что подвигнуло тебя поступать именно на юридический факультет?
– Моя мечта – стать прокурором, судьей или же, на худой конец, начальником милиции...
Фаттах сокрушённо покачал головой.
– Я не противник юриспруденции, я только не приемлю тех, кто становится юристом из чисто корыстных, а по сути – преступных побуждений, – сказал он. – Хоть вслух ты этого не признаёшь, но из ответа твоего можно сделать однозначный вывод, что в основе твоего выбора лежит исключительно стремление к славе и богатству. Только имей в виду: все беды, все дрязги и все разочарования на земле проистекают от непомерной людской алчбы. Страсть владеть большим, нежели необходимо, с неизбежностью приводит к жизненному краху. И в данной связи мне ничуть не жаль, что тебе не удалось поступить на юрфак. Некоторые полагают, будто слава и почёт – привилегия одних лишь толстосумов. Это наивное заблужде-ние. Я держусь иного мнения. Скажем, Уатт, Франклин, Фарадей, Галилей, Кеплер – величайшие деятели человеческой цивилизации, вышли все из бедных семей. И мне категорически претит ваша – молодёжи - тяга к земным благам… Да и к тому же, средства, какими вы намерены обрести заветные славу и почёт, заведомо обра-щают последние в подобие мыльной пены.
– Согласен с тобой, – усмехнулся Назим. – Но только у меня была совсем иная цель. Вообще-то первоначально я думал стать историком и лишь по дороге в райцентр изменил своё решение – после того, как отец мой напустился на одного прохвоста, погонявшего гружённого мукой мула.
– Что ещё за прохвост? – поинтересовался Фаттах.
В ответ Назим пересказал ему всё то, что узнал о воришке от Аллахверяна, после чего пояснил:
– Вот почему захотелось мне стать прокурором или же милицейским началь-ником – чтобы изловить этого гада, донимающего моего отца, и чтобы избавить от ворья наше село и все окрестные. Значит – не судьба…. – Последние слова юноша произнёс с трогательной сокрушённостью, пожав плечами и глубоко вздохнув.
Вначале Фаттаха рассмешило заявление родственника, но затем он неожи-данно вдруг посерьёзнел:
– Теперь мне всё понятно. Что ж ты до сих пор об этом молчал? Знай я раньше то, что узнал сейчас, я ни за что бы не позволил тебе подавать документы на юридический.
– Это почему?
– А вот потому… потому, что ты молод и о многом не имеешь понятия. Ну, во-первых, в наше время поступить в вуз благодаря только лишь собственным познаниям вообще необычайно трудно, а стать студентом юрфака и вовсе невоз-можно. Чтобы удостоиться зачисления туда, тебе необходимо иметь либо могу-щественного покровителя, либо же тугую мошну. А каков твой актив – бедняга Аллахверян, простой крестьянин, денно и нощно в земле копающийся, и всего-то. Ни сану, ни чистогану!
Резким порывом ветра дверь чуть не сорвало с петель. Опередив Назима, Фаттах вскочил с места и закрыл одно из домашних окон, после чего вернулся к давешнему разговору.
– Кроме прочего, надобно тебе знать, что в стране у нас в правоохранитель-ные органы рвутся вовсе не затем, чтобы бороться с преступностью. Ведь преступ-ники и преступления – это как курочки и откладываемые ими золотые яички. И тот, кто бывает к ним допущен, преуспевает, полагая себя избранником судьбы. Однако благоденствие это с неизменностью влечёт за собой злейшие напасти. Непреход-ящая благодать ниспосылается лишь тому, кто добывает себе достояние праведным трудом – мозолистыми руками, зорким глазом, острым умом. Ты, Назим, возможно, в душе негодуешь на меня за эти мои откровения. Но поверь – первая большая неудача, постигшая тебя, она лишь усугубила и без того предельную угнетённость моего духа. Днём мне приходится общаться с самыми разными людьми, ночи же я провожу за чтением книг. И вот меня приводит в ужас величина пропасти между тем, что я читаю в книгах, и тем, что реально наблюдаю вокруг себя. И знаешь, быть может, то, что сегодня тебя постигло разочарование, то, что судьба воспрепятство-вала твоему намерению стать прокурором или же милицейским чином, есть знак величайшего расположения небес к непорочному юноше, выросшему в благолепии Чичекли!
Безмолвно, подперев кулаком подбородок, с видом человека, лишившегося последнего своего имущества, смотрел Назим в лицо старавшегося его расшевелить Фаттаха. Но хотя речь родственника и проникала в сознание юноши, мысленно пребывал он за много вёрст отсюда, в родных ему горах. С каким же лицом, думал Назим, вернётся он теперь в село?! Что скажут о нём чичеклинцы?! Ах, было бы лучше ему умереть, избавив тем от позора бедного Аллахверяна!..
Сказывают: грянет мор – каждый о своей беде плачет. Можно было предпо-ложить, что Фаттаха снедала некая затаённая душевная боль. Выговорившись, он встал, положил ладонь на плечо Назима и, резко встряхнув парня, вывел того из задумчивости.
– Такие-то дела, друг мой! Надеюсь, ты понял, что я хотел тебе сказать. Одним словом, не обращай внимания на пустое и не кручинься понапрасну. Слу-чившееся, оно, может статься, и к лучшему, – сказал Фаттах.
С наступлением вечера сделалось попрохладней, и оба земляка отправились пройтись по городу. Прогулка оказалась продолжительной, и домой они вернулись изрядно подуставшие.
Утром Фаттах ушёл на работу, а Назим вначале забрал из университета свои документы, а после двинул на Кубинку – прославленный бакинский «чёрный рынок».
Местная фарцовая шушера, тотчас распознавшая «фраерка», облепила Нази-ма, как пчёлы сахарную голову. Какой-то малый с наброшенным на вешалку кос-тюмом в руке заступил Назиму дорогу и принялся вовсю расхваливать свой товар.
– Мне нужны штучные брюки, – насилу отбился от него Назим.
Но тут же был перехвачен подвыпившим ражим детиной славянской внеш-ности, еле держащимся на ногах и имеющим при себе несколько пар перекинутых через предплечье брюк. От ражего густо несло винным перегаром вперемешку с духом маринованного чеснока. Не желая торговаться с пьяным, Назим попытался было пройти мимо, но ражий был неотступен. В конце концов Назим сдался и, наобум ткнув пальцем в одну из брючин, спросил:
– Сколько?
– Две тысячи! Нигде больше не ищи, мой товар – дешевле не бывает. Мне жену класть в больницу, оттого-то вот и спешу. Хоть задаром продам всё – и бегом домой.
– А цену не сбавишь?
– Ни на копейку. Город весь обойди – товара такого не сыщешь. А отдаю его задешево оттого лишь, что деньги нужны позарез, можно сказать – себе в убыток торгую.
Назим, от века никогда не вравший, не заподозрил в ражем лукавства. Ещё он подумал, что коли за товар запрошено аж две тысячи рублей, то, стало быть, вещь ему предлагают стоящую. Впрочем, рассудил он, имей ражий совесть, то дал бы отступного хотя бы на сотню-полторы…
И тут в их торг вмешался азербайджанец средних лет. Его объёмистый живот свешивался на пах, через прореху в распахнутой рубашке виднелась на груди татуировка в виде сердца, пронзённого кинжалом...
– Слушай, брат, что тебе надобно? – обратился он к Назиму.
– Вот брюки ищу.
– А что эти не берёшь? – И животастый кивнул в сторону ражего. – Отличные брюки, стопроцентная шерсть!
– Дорого запрашивает.
– Пустое говоришь! Да уж ладно, ты из наших будешь, а потому полцены для тебя я как-нибудь собью. Не видишь разве, он и сам не соображает, что говорит?! Обвести его вокруг пальца – дело плёвое.
Назим не нашёлся, что на это ответить. Между тем животастый прошептал ему на ухо:
– Готовь тысячу, остальное – не твоя печаль!
Став к животастому спиной, Назим извлёк из кармана штанов мятые ассиг-нации и отсчитал затребованную сумму, которую вложил затем в ладонь своему «благодетелю». Тот же, чуть не насильно, всучил деньги ражему.
– Не наглей! Возьми, и пусть они поперёк глотки у тебя станут! Здесь две тысячи! – И животастый знаком приказал Назиму: исчезни.
С вожделенным свёртком под мышкой Назим было уже покинул Кубинку, когда перед ним вновь возник животастый.
– Братец, поговорим как мужчины. Я надул этого русского, на чём ты выиграл целую тысячу целковых. Имей же совесть, отстегни мне от них хотя бы половину.
Требование это Назим счёл справедливым и немедля его удовлетворил…
Покупку свою Назим расценивал как чрезвычайную удачу. Это ж надо, вещь ценою в две тысячи досталась ему всего-то за полторы! И какая – из стопроцентной шерсти! «Положительно мне сегодня везёт!» – не мог нарадоваться он.
Между тем на работе Фаттах пробыл совсем недолго и вскорости возвратился домой. Назавтра предстоял отъезд Назима, и Фаттаху хотелось напоследок подольше побыть с родственником. Назим весь лучился довольством, когда рассказывал ему о своём приключении на Кубинке. Но только продемонстрировал Фаттаху расхваленную обнову, как тот раздосадовано покачал головой.
– Носи не сноси! – сказал он. – Однако переплатил ты за свои брючки пре-изрядно, тебя попросту облапошили. Такого добра полно в любой пошивочной, и красная цена ему – триста рублей. Эти животастый и пьянчуга действовали заодно – они мошенники. Не стоило тебе без меня ходить за покупками. Ты воспитан в сельских нравах, а здесь – город. Жуликов тут и аферистов!.. Вот ты думал – изловишь ворюгу, которого отец твой обложил, и тем зло на земле искоренишь… Какая наивность!..
Назим совсем поник. Брюки, покупка которых доставила ему столько радос-ти, теперь были для него не ценнее тряпки. Но исправить ничего уже было нельзя.
* * *
К перрону подкатил поезд «Баку – Ереван». Ступив на подножку своего вагона, Назим обернулся назад, прощально помахал Фаттаху и только после того, как родственник окончательно пропал из виду, прошёл в тамбур.
Назим имел при себе чемодан, с которым особенно хлопотно было протискиваться сквозь плотный строй людей, запрудивших вагонный коридор. Всё же ценой неимоверных усилий юноше удалось-таки проломиться к заветной, под номером «17», полке, на которой уже успел расположиться некий пожилого возраста пассажир.
– Дядюшка, какое у вас место? – спросил у него Назим.
– Семнадцатое, – последовал ответ.
Назим остолбенел.
– Этого не может быть! – выкликнул он. – Вот мой билет, в нём ясно указано: место номер семнадцать.
– Наверное, кассир ошибся, сынок, – промолвил пожилой, – на одно место выписал два билета. Такое за их братом-железнодорожником водится. Что ж теперь сделаешь! Широкой душе, говорят, и теснина – раздолье. Садись-ка рядом, умостимся как отец и сын. Через четыре остановки мне сходить, так что дальше покатишь со всем комфортом….
Только тут Назим заметил, что одна нога у его спутника ампутирована по колено. У парня защемило сердце...
Уже стемнело. По мере отдаления от города Назим всё явственней ощущал пленительную лёгкость в теле и бодрость духа. Темень за окном стояла непрог-лядная. Лишь изредка мелькали в нём похожие на звёзды огоньки разбросанных вдоль железнодорожной линии населённых пунктов.
В вагоне не было ни единого свободного места, однако на каждой очередной остановке набивались в него всё новые группы пассажиров самых разных мастей и возрастов, с тюками, коробами и узлами. Вдруг перед Назимом вырос дюжий дети-на, несколькими годами его постарше: запыхавшийся, тот опустил на пол громозд-кий, перевязанный бечёвкой ящик и замахал руками:
– Вставайте, вставайте! Семнадцатая полка – моя! Освободите её, пока я руки в ход не пустил! Место номер «семнадцать» проставлено у меня в билете!..
Соседи одноногого и Назима растерянно переглянулись между собой. Последний поднялся и спокойным тоном произнёс:
– Будьте добры, присядьте.
Но, не обратив внимания на сделанное ему предложение, дюжий приступил к пожилому калеке:
– Я с тобой, я с тобой! Что уставился?! Прочь с моего места! Или желаешь другого объяснения?! Слышишь, семнадцатое место – моё!
Инвалид попытался было привстать, однако оступился и рухнул на пол. Назим помог ему подняться и водвориться на полке. Затем обернулся к дюжему:
– Произошла ошибка, нам троим выписали билеты на одно место. Что ж, придётся с неприятностью этой как-то смириться. Только вот старика этого трогать не смей! Мы и стоя можем доехать, он же – инвалид…
Дюжий резко оборвал Назима:
– Послушай, ты, пацан, нечего голову мне морочить! До того, о чём ты говоришь, мне дела нет! Так что проваливайте-ка отсюда оба, пока я всерьёз вами не занялся. Эта полка – моя по праву!
По всему видно было, что у дюжего чешутся руки. Из одного него двое Назимов выкроилось бы. Однако чего-чего, а решительности молодому чичеклинцу было не занимать. Недавние отроческие игры, требовавшие проворства и силы, лазание по деревьям во время сбора фруктов, плавание в реке – всё это сделало его тело крепким и гибким, как лыковый жгут. Субтильного телосложения, Назиму, тем не менее, случалось одерживать верх над настоящими силачами. То же произошло и в этот раз. Лишь только дюжий выбросил руку в сторону инвалида, как Назим ловко перехватил её и отбил в сторону.
– Не тронь его! – воскликнул юноша. – Он в отцы тебе годится, постыдись! Человек здоровье своё отдал ради нас с тобой!
Дюжий замахнулся на Назима, но тот, заломив противнику шею, мгновенно поверг его на пол. Затем несколько раз наподдал ему в живот коленкой и влепил пару-тройку добрых оплеух. Пассажиры вокруг с очевидным одобрением наблюда-ли за действиями давешнего тихони. Между тем, приложивший руку к окровавлен-ному рту дюжий сыпал угрозы в адрес Назима:
– Погоди, погоди, я тебе сейчас покажу! – И, продираясь сквозь людской частокол, устремился к смежному вагону.
Было несомненно, что ушёл он либо за подмогой, либо же затем, чтобы накапать на своего обидчика железнодорожным милиционерам. Оказавшийся человеком дошлым, пассажир-калека тотчас оценил ситуацию и убедил Назима где-нибудь затаиться. Подхватив свой чемодан, тот незамедлительно прошёл в тамбур и через разбитое окно в двери влез на крышу вагона.
Народа здесь было полным-полно. Тяжело дыша, Назим присел в сторонке и привалился к своему чемодану. Железнодорожный состав казался не имеющим начала и конца. Свет паровозного прожектора прорезал густую темь, накрывшую Миль-Муганскую степь. Разносившийся из трубы локомотива отвратительно-горь-кий дух горелого каменного угля пробуждал в пассажирах мигрень. Голодный и му-чимый жаждой, Назим приник головой к фанерному своему чемодану и уже было впал в дрёму, когда кто-то толкнул его в плечо, воскликнув:
– Эй, братец, братец!..
От неожиданности вздрогнув, Назим сей же миг очнулся. Незнакомец жестом предлагал ему завёртку лаваша.
– Возьми, это лаваш, а в нём вареное яйцо. Оголодал, верно, покушай, подкрепись немного…
«Его мне сам Аллах послал!» – подумал Назим, с благодарностью принял от незнакомца лаваш и стал жадно есть.
Назим вновь прикорнул, но вновь же вскорости был разбужен. Казалось, будто зарядил тёплый ситник. Вокруг царило странное оживление. Невдалеке Назим различил стоящую на краю вагонной крыши фигуру – некто, со всей очевидностью, справлял малую нужду. Располагавшиеся поблизости пассажиры тотчас подняли негодующий гвалт. Один из них толкнул бесстыдника в спину, да так, что тот с истошным криком слетел с вагона, мгновенно исчезнув во мраке ночи.
Поезд между тем как ни в чём не бывало продолжал свой бег.
Назим, почивающий на просторном, хотя и крайне неудобном ложе, видел путаные сны. Вдруг сквозь сон ему послышалось:
– Минджеван!.. Минджеван!..
Юношу как кипятком ошпарило. Протерев кулаком глаза, он огляделся вок-руг. Солнце уже взошло. Поезд стоял на станции «Минджеван», что означало: пункт Хекери, где должно было высадиться Назиму, остался далеко позади. Парня взяло отчаяние. Он спрыгнул на перрон. Назим едва мог сдержать слёзы: «Ну и влип же я! Куда мне теперь податься и на чём?! В края наши автобусы отсюда не ходят, а на то, чтобы поймать попутку, особенно рассчитывать нечего!» Он подошел к человеку в железнодорожной форме, с мощным, наползшим на воротник загривком.
– Дядя, сколько километров отсюда до станции «Хекери»? – спросил Назим.
Лицо железнодорожника выражало полное разочарование жизнью. Он ударял по вагонным колёсам неким металлическим предметом и лишь после значительной паузы ответил Назиму, не глядя в его сторону:
– Откуда мне знать! Не мерил! Пожалуй, километров двадцать, может, чуть поменьше.
Узнав, что хотел, Назим не мешкая двинулся в путь. С чемоданом в руке он двигался то по шпалам, то кюветом, параллельно железнодорожной насыпи. Рельсо-вый путь, змеившийся вдоль Араза, проходил близ пограничной зоны, в пределы которой и мыши было не прошмыгнуть. Именно поэтому созревшая ежевика оставалась тут совершенно нетронутой. Время от времени Назим задерживался у ягодных кустов, ставил на землю свой чемодан и объедался сочными плодами, которыми только и мог хоть как-то утолить острые голод и жажду.
Одна из коротких таких трапез внезапно была прервана появлением невесть откуда взявшихся, в строгих ошейниках овчарок, с лаем обступивших Назима. Неподалёку, у изгиба железнодорожного полотна, юноша углядел манивших его пальцами, вооруженных автоматами светловолосых пограничников. Когда он по-дошёл к ним, один из пограничников – сержант с прищуренными глазами, внима-тельно ознакомился с его документами, после чего Назим был коротко допрошен, а затем препровождён на ближайшую заставу.
Начальником здесь был высокого роста худощавый старший лейтенант. Он сидел на длинной скамейке, в тени тутовых и абрикосовых деревьев, увлечённо чи-тая газету. Подступив к своему начальнику, сержант что-то тихо ему сообщил. Стар-лей немедленно отложил газету в сторону и, пытливым взглядом окинув фигуру задержанного, приказал ему:
– Подойди поближе!
Назим выдвинулся на несколько шагов вперед. Старлей вновь пристально его оглядел.
– Какого чёрта тебя сюда занесло? Или не знаешь, что шататься здесь запре-щено?! – металлическим голосом отчеканил он и обернулся к сержанту: – Как следует осмотрите содержимое его чемодана. От этаких типов всякое впору ждать.
– Тов… товарищ командир, честное слово… я ездил в Баку сдавать экзамены... А теперь вот домой иду… – заикаясь, произнёс Назим.
– Если так, то что, спрашивается, шляешься ты вблизи железной дороги?!
– Мне сходить было на станции Хекери, но я проспал. Теперь вот пешком туда добираюсь.
– Отчего ж тогда не трактом идёшь, а вдоль железнодорожного полотна? Ишь ты, шельма, гляди, как юлит! – Лейтенант не на шутку был рассержен.
– Товарищ командир, эти места мне чужие, я их совсем не знаю, и поэтому…
– Нечего резину тянуть! – бросил старлей сержанту. – Ягнячьему его блеянию доверяться нельзя. Проверьте его как следует, не то натворит, мазурик, делов, а нам после отдувайся!
По-военному вытянувшись, сержант гаркнул «есть!», после чего с паспортом и прочими документами задержанного прошёл в одно из специальных помещений заставы. Наведя по телефону справки относительно личности Назима, он затем шёпотом доложил полученную информацию на ухо своему начальнику.
– Что ж вы тогда сюда-то его приволокли?! В игрушки, что ли, играете?! Вывести с заставы – и в шею! И объяснить, чтоб дурака такого больше не валял!
Назим ощущал себя лягушонком, чудом вырвавшимся из змеиной пасти. Выйдя на проселок, что пролегал за пределами пограничной зоны, не оглядываясь, зашагал он в направлении, давеча указанном ему сержантом, – к заветной станции «Хекери».
А в то же самое время молчаливый свидетель оголтелого людского произвола Араз, сплошь огороженный и перегороженный колючей проволокой, Араз вскипал, порываясь выплеснуться из родных берегов, корчился, словно бесноватый, не умея принять того, что народ с общими языком и религией стал разделён укреплённой границей, и, в желании обрести изначальную свою благость, как разъярённый зверь, рвался на восток – к очистительным пенно-лазурным водам Каспия…
* * *
Наконец вдалеке показались рассыпанные в беспорядке одно- и двухэтажные дома Хекери, крытые по большей части обмазанным глиной камышом. Возле протекавшего вблизи станции, забранного кустарником арыка стояло на привязи множество лошадей, мулов и ослов. Назим знал, что животные эти – чичеклинские, доставившие сюда обмолоченный хлеб, и пришёл при виде их в такое ликование, как будто нежданно получил в дар золотую россыпь. В воображении юноши воз-никли образы односельчан, что на этих самых животных прибыли в Хекери, пере-валив через горы, одолев степь, – образы людей, необыкновенно приветливых и всегда готовых прийти на помощь. Назим решительно направился к заготови-тельному пункту.
Один за другим люди здесь – все сплошь земляки Назима – снимали с ваги набитые пшеницей мешки, взваливали их себе на спину и, кряхтя, относили в зернохранилище. От радости у парня закружилась голова – как будто бы целую вечность не видел он этих, столь милых его сердцу лиц.
Вдруг Назима окликнул молодой, потерявший на фронте руку складчик:
– Рад тебя видеть, Назим! Аллахверян-киши день-деньской только о тебе и говорит, страсть как по тебе скучает.
Мысленно Назим обратился к Аллаху, моля Всевышнего упасти его от расспросов насчёт злосчастного поступления в вуз...
Как только всё зерно было сгружено, чичеклинцы по пыльному просёлку двинулись в обратный путь.
Дорогой все без умолку шутили и смеялись. Один лишь Назим не участвовал в общем веселье. Всё мучился он думой о том, как-то предстанет завтра пред очи родных и близких. Уже слышались ему шепотки сельчан: «Жалость-то какая, сынок Аллахверяна на поверку бестолочью оказался, седины родительские опозорил. А ведь был-то отцовой гордостью! И вот же каков конфуз!» Назим сквозь землю готов был провалиться.
Ехали с самого полудня без единой задержки и достигли пределов райцентра, когда уже смерклось. В город решили не заезжать и взяли прямой курс на Чичекли. Казалось, этим людям неведомы усталость и упадок духа. Если ландшафт был соответствующий, они пускались вскачь наперегонки, по горным же тропам, напротив, двигались медленно, растягиваясь в длинную вереницу.
Уже начал заниматься рассвет, когда чичеклинцы преодолели последний на их пути к селу перевал. Издали различались сельские гумна, пирамидальные стога и плосковерхие сенные холмики. Ездоки заторопились – пора было выпускать скотину на улицу: подступало время отгона на выпас колхозного стада.
На заре Аллахверян перекинул через спину Гамера хурджун, в одном отде-лении которого находился бурдюк с водой, а в другом - молочные продукты и хлеб, и уж было принялся приторачивать к седлу косу, как в дворовой калитке неожидан-но появился Назим. При виде сына Аллахверян вытаращил глаза и плотно сжал губы. Затем порывисто бросился к Назиму, прижал его к груди и большими по-сечёнными ладонями огладил ему волосы.
– Сынок, почему ты заблаговременно не оповестил меня о своём приезде? – наконец отстранившись от сына и оглядев его с ног до головы, обмолвился Аллахверян. – Твой отец озаботился бы забрать тебя из райцентра! Как же ты добирался… сейчас этакая рань!..
– В Хекери повстречал наших, привезших туда зерно, и вот – примкнул к ним...
Расслышавшая их голоса, из дома выскочила старая Фатьма.
– Слава Аллаху, сынок, слава Аллаху! – воскликнула она. – В каждую молит-ву просила я небо вернуть тебя нам целым-невредимым. Даже назир1 в мечеть отнесла. Такого дня не было, чтоб не порадовала даянием какого-нибудь сироту...
– Скажи, – оборвал её Аллахверян, – а как насчет того, зачем ты уезжал? Что, приняли?
И тут Назима точно ядовитым жалом в сердце поразило. Разом лишившийся речи, он низко склонил голову, на лице его, отмеченном бессонными ночами и без-мерной усталостью, выступила густая испарина. Сразу всё понявший Аллахверян не стал мучить сына расспросами. Подавленность Назима болью отозвалась в его душе, но старик умел держать себя в руках.
– Сынок, – исполненным нежности тоном обратился он к парню, – откро-венно говоря, мне вовсе не по нраву пришлось твоё решение поступать в этом году. Конечно, высшее образование – штука полезная, но и то сказать – зачем с ним спешить? Плохо ли, ещё годок подле меня побудешь, отдохнёшь, окрепнешь. И ещё: что на земле с человеком происходит, все это – промышление Аллаха, а кто не верует в Него – тот нечестивец! Словом, может, случившееся даже и к добру, так что не терзайся ты понапрасну. Здоров – и слава Богу! И то прими как удачу, сынок, что не нужно тебе ни дома себе возводить, ни добра наживать – всё это, с Божьей по-мощью, отец для тебя уже сделал. Ты – единственная моя отрада... Если подумать, то в вузе тебе и вовсе никакой надобности нет. Станется и того, что ты в школе получил. Найдём тебе у нас какую-нибудь непыльную работку, вот и будет чем заняться. А я… много ли мне осталось?!.
Несмотря на все старания Аллахверяна утешить сына, Назим продолжал убиваться в связи со своей неудачей. Взор его словно приковали к земле. Он не смел взглянуть в глаза отцу и в мнительности своей ощущал общее к себе охлаждение.
Весть о том, что Назим бесславно вернулся домой, мгновенно облетела село. От стыда юноша и носа на улицу не казал. Для сельских ехидин и шептунов Аллах-верян придумал благовидное объяснение сыновнего приезда, но было несомненно, что старика гнетёт как собственная ложь, так и неуспех его парня. Глядя же на ста-рую Фатьму, вообще можно было подумать, что та держит по ком-то траур. Понят-но, дома все как умели щадили чувства Назима, однако насчёт реального положения вещей он не обманывался нисколько, и, о Аллах, как же он страдал!
Как-то раз, прервав своё затворничество, Назим повёл Гамера на водопой и, приблизившись к ручью, услыхал, как одна из хлопочущих у воды женщин обра-тилась к подругам:
– Послушайте, было время, все наперебой расхваливали Аллахверянова мальца. Как же могло случиться, чтобы умнику этому – бумаги его под мышку, да и под зад болезного домой, как порочную девку?!
От этих жестоких слов у Назима прилила к щекам и тотчас схлынула с них краска. Если бы разверзлась перед ним земля, он не колеблясь ступил бы в бездну.
Не однажды, сказавшись тем, что отправляется на речку поплавать, уходил он из дому и возвращался лишь поздним вечером. Назим убедил себя в том, что своим непоступлением в вуз он предал Чичекли и что окрестные озёра, в которых так лю-бил он плескаться, сады – желанное место его прогулок, горы, на склонах которых привычно собирал он грибы и съедобные коренья, – все разом отвратились от него. Назим напряжённо раздумывал над тем, как бы оправдаться ему в глазах земляков.
Было уже десятое сентября, то есть во всех учебных заведениях давно полным ходом шли занятия. А это значило, что поправить положение было никак нельзя. Вдруг Назиму припомнились рассказы отца о Фархад-муаллиме, что двадцать лет назад квартировал у них во флигельке и чей брат, Велияддин, ныне состоял в ректорах какого-то института в Карабахе. А что бы не съездить туда?! Но нет, время упущено, поезд ушёл!..
После этого дня ещё с неделю ходил он как в воду опущенный. Но вот мысль о поездке в Карабах вновь посетила его. «Ну чем, в самом деле, я рискую? – рассуж-дал он. – Повезёт – вино вызреет, а нет – так уксусом удовольствуюсь. В любом случае без прибытка не останусь. Сообщить о моей задумке отцу? Нет, он наверня-ка примет её в штыки, уж я-то характер его знаю. Небось, скажет: во-первых, пора вступительных экзаменов давно закончилась, а во-вторых, уж сколько лет-де с родней Фархад-муаллима мы не общаемся, дорожками с нею разойдясь».
Аллахверян снарядился ехать верхом в Мешели – село, находившееся в нескольких часах пути от Чичекли. Ему нужно было забрать дубовую древесину, которую он заготовил ещё в прошлом году, для просушки закопав её в навоз на подворье у одного из тамошних своих приятелей. Мешелинцы утверждали, что добротней, чем просушенная в навозе, древесины на свете нет – никогда не подгниёт и не потрескается.
Ранним утром, оседлав Гамера, отправился Аллахверян в Мешели, где намеревался задержаться дня на два-три.
Между тем Назим окончательно решил, что поедет в Карабах. Дождавшись отбытия отца, тайком и сам он покинул село. О намерении своём поставил в извест-ность лишь ближайшего друга и наперсника – Эхлията, замечательного художника-самоучку, искусство которого Назим некогда настойчиво старался перенять. Назим собрал в одну папку свои документы, оделся получше и двинулся по ведущей в горы тропе. Одолев Зыбыхское ущелье, под вечер вышел он на простилавшееся к Карабаху шоссе. Остановившись на пригорке, взопревший, изнеможённый, задумчиво глядел он вдаль, на извивы дорожного полотна. Едва различив силуэт приближающейся машины, он сейчас же сбегал со своего наблюдательного пункта на обочину шоссе. Но что дела было до него водительской братии: автомобили с рёвом проносились мимо, оставляя парня в облаке пыли и бензиновых выхлопов.
За всё это время Назим и глотком воды горла не промочил, что же до голода, то парень давно уже с ним свыкся. Тем не менее, к закату тот сделался столь нестерпимым, что Назим вынужден был потребить свой «неприкосновенный запас» – прихваченную из дома пустую юху1.
Смеркалось. Туман и темень вместе сходили на землю. С неба прыснуло вдруг редкими дождевыми каплями. На глаза Назиму неожиданно попалось не-большое естественное укрытие под плоским, козырьком нависшим над дорогой, камнем. «Если дождь польёт по-настоящему, – подумал юноша, – можно будет там и переночевать». В это мгновение издалека послышался характерный гул: засветив-шиеся на подъёме дороги, в направлении Назима двигались два огненных глаза. Воззвав к милости Аллаха, Назим стремглав помчался вниз с пригорка. На сей раз став на середине дороги, он отчаянно вздел руку. Грузовик затормозил в нескольких метрах перед парнем. Сидевший рядом с водителем седой мужчина, в галстуке поверх белой тенниски и с лицом святого угодника, высунулся из окна кабины:
– Куда тебе, сынок?
– В Карабах, в институт… точнее сказать не могу.
– А вещей-то много?
– Нет, один лишь лёгкий чемодан.
– Ладно, полезай в машину.
Назим подхватил свой чемодан и секунду спустя уже находился в кузове гру-зовика. Здесь стояло несколько укрытых душистой зеленью корзин с виноградом. Пока машина катилась под гору, юноша стоял, приникнув к переднему борту, но вскоре у него заболело в коленках, и он присел на своём чемодане, привалившись спиной к одной из корзин. Глаза у Назима слипались, но всякий раз, только забирала его дрёма, машину вскидывало на очередном ухабе, и он просыпался.
Всё ниже опускались грозовые тучи, всё гуще становилась ночная темь… Свет автомобильных фар едва-едва пробивался сквозь плотный мрак. Чтобы сле-дить за дорогой, водителю приходилось до предела напрягать зрение, он сильно нервничал, нещадно мучил акселератор, при этом, однако, со всей осторожностью правя рулём. Чем выше в гору, тем дорога делалась всё более извилистой, а подъё-мы на ней – всё более крутыми. Мотор грузовика, работавший на максимальной мощности, ревел, как раненый зверь, и сотрясающий ночь этот дикий рёв разносился на многие вёрсты окрест.
Дождь усилился. Водитель приспустил стекло на своей дверце и кликнул Назима.
– Там, в кузове, найдёшь старенький пиджачишко, надень его, не то совсем задубеешь по этакой мокряди!
Назим пошарил между корзинами и действительно обнаружил изволглый, пропахший бензином пиджак, который приладил над собой наподобие тента.
После того, как они перевалили через горный отрог, дождь, наконец-то, пошёл на убыль. Назим промок до нитки и походил на выловленного из полыньи цуцика.
Когда они выкатили на асфальтированную дорогу, водитель сейчас же прибавил газ. Впереди похожие на изумрудные россыпи виднелись купы пышных низинных садов. Грузовик въехал в город и уже через минуту-другую притормозил у левой кромки дорожного полотна. Расспросив Назима, оба его спутника удостоверились в том, что он и подлинно здесь впервые и ни с кем из местных не знаком. Указав куда-то в темноту (там находилось обнесённое каменным забором трехэтажное здание), тот, что был в тенниске, сказал:
– Гляди, вон твой институт. Хочешь, тут высаживайся, а хочешь – мы отвезём тебя в гостиницу. Сам решай.
Назим горячо поблагодарил обоих своих спасителей и немедленно выгрузился из машины...
…В городе действовала одна-единственная, тепловая, электростанция, и та работавшая всего лишь до двух часов ночи, то есть к настоящему времени город уже час как почивал при полном мраке. Не умея ничего различить и в шаге от себя, Назим, по стеночке, прощупывая пальцами забор, кое-как доковылял до институтских ворот. Накрепко запертые, те, однако, не поддавались ни в какую.
– Сторож, сторож! – как мог громко зарядил юноша.
Но, вероятно, оттого, что голос у парня был изрядно осипшим, отчаянный призыв его остался безответным. Обессилевший, Назим присел на лежащий тут же, под грушевым деревом, объёмистый булыжник. Часов при себе у него не было, однако крики петухов предвещали скорый рассвет. Привалившись спиной к мас-сивному жёсткому древесному стволу, совершенно донятый путаными мыслями, Назим, наконец, задремал. Вскоре, однако, его пробудили от дрёмы ощущение чьего-то тёплого дыхания у него на ноге и тихое металлическое позвякивание. Вначале Назиму показалось, что всё это происходит во сне, но затем, открыв глаза, он с ужасом обнаружил: вокруг него мечется жуткого вида псина, без сомнения, сорвавшаяся с цепи и учуявшая запах помещавшейся в чемодане юхи. Только Назим вскочил на ноги, как псина резво припустилась прочь. До самого рассвета он так больше и не сомкнул глаз и, чтобы хоть как-то согреться, усердно разминался.
Чем выше поднималось солнце, тем всё более разреженной делалась укрывавшая город серая промозглая мгла. Близился конец мукам несчастного Назима, проведшего ночь в томительнейшем ожидании, на каменной «перине», под ветвистым пологом грушевого дерева. Слабенький лучик надежды теплился в его душе, и при мысли о том, что он может лишиться и этого «света», в воображении у Назима ясное утро начинало заволакивать мраком минувшей ночи – картина, сквозь которую проступала сцена очередного позорного возвращения домой.
* * *
…Утреннюю тишь нарушили переклики подымавшихся ни свет ни заря студентов. Крытые грузовички один за другим вынырнули из широко распахнутых институтских ворот и понеслись в город, чтобы вскоре вернуться полными съестных продуктов для местной кухни.
Ступив во двор института, Назим сейчас же натолкнулся на молодых людей с мыльницами в руках и с перекинутыми через плечо полотенцами. Все они направлялись к водопроводному крану, находящемуся метрах в ста пятидесяти – двухстах от главного здания вуза. Один из парней неожиданно отделился от общей группы, подошёл к Назиму и отобрал у него чемодан.
– Что ты делаешь здесь по такой-то рани? – Парень оказался также из Чичекли.
– По правде говоря, и сам не знаю. – В голосе Назима звучала безнадёжность.
Среди студентов были ещё чичеклинцы, как бывшие с Назимом накоротке, так и мало ему знакомые. Они дружной гурьбой обступили односельчанина, а затем отвели его в общежитие, что располагалось на первом этаже главного корпуса. Кто-то ссудил его одеждой, чтоб Назиму было в чём ходить, пока сушится его собственная. Ещё его угостили чаем – мутноватой водицей в граненом стакане.
Когда Назим рассказал, зачем сюда приехал, его товарищей взяла оторопь.
– Ты поступил безрассудно...
– Что ж ты спал до сих пор-то?!.
– Очнулся, когда поезд уже ушёл!..
– И какой дурак такое тебе присоветовал?!.
У каждого имелся собственный резон в обоснование опрометчивости Назима. Были и те, кто украдкой посмеивался над ним. Вконец задёрганный, Назим ошалело выпалил:
– Что сделано, то сделано! Наивный ли, неразумный, но я уже здесь! К вам же у меня только одна просьба: укажите, где кабинет ректора!
…В ректорской приемной стучала на печатной машинке довольно мило-видная особа, при появлении Назима немедленно отнявшая пальцы от клавиатуры.
– Что вам угодно, уважаемый?
– Мне нужно встретиться с ректором.
Особа, оказавшаяся секретаршей, твёрдой походкой прошла в начальничий кабинет, задержавшись в нём менее минуты.
– Пожалуйста, вас ждут, – выйдя из дверей кабинета, бросила она Назиму.
Ректор был хмуроликий мужчина с мягкими, зачёсанными на косой пробор каштановыми волосами. Одет он был в голубой сатиновый пиджак и в белые пару-синовые брюки.
– Слушаю вас, – обратился он к юноше, лишь только тот выступил из дверей.
– Муаллим, – робко промолвил Назим, – моё заветное желание –учиться. Вот приехал узнать, можно ли… – От волнения он не смог договорить фразу.
Ректор между тем, приложив ладонь к уху, наклонился в сторону Назима:
– Не слышу, говори громче, что тебе нужно?
– Муаллим, я приехал сюда учи…
– Что? Учиться?
– Да.
Ректор с сожалением покачал головой и, добавив строгости своему взгляду, процедил:
– Вы сумасшедший или..?
– …
– Хочешь, обижайся, но я откровенно скажу: не очень-то похож ты на нормального человека.
– …
– Сынок, здесь не колхозный базар, здесь институт. Существуют определён-ные правила приема в вуз – мы опубликовали их в газете. Нужно было своевремен-но подать документы, сдать экзамены… А ты что, очнулся аж двадцатого сентября – и с неба нам на голову: желаю, мол, учиться!
Назим молчал. Пустой его взгляд застыл на лице ректора. Тот насупился и вдруг полюбопытствовал:
– Из какого района будешь?
– Из Чайговушанского.
– А из какого села?
– Из Чичекли, муаллим.
Ректор сощурил глаза, казалось, силясь что-то вспомнить:
– Да, да, Чичекли! Конечно же, Чичекли! – Некоторое время поразмыслив, он затем вопросил: – Был там некий Аллахверян-киши, чрезвычайно широкой души человек, жив ли он ещё?
– Жив, муаллим, это мой отец.
У ректора сейчас же потеплел взгляд и разгладились морщины на лбу.
– Присаживайся, сынок, – ласково молвил он, – присаживайся. – И указал юноше на стул, после чего вызвал к себе по телефону проректора по учебной части, которому, когда тот появился в кабинете, сказал: – Парень этот с окраины республики. Ребята из Чайговушана - не такие уж частые у нас гости. Несколько человек, зачисленных в этом году в институт, на учёбу не приехали, и мне думается, в виде исключения, мы могли бы принять этого юношу на одно из освободившихся мест. Признаюсь также, мне по душе пришлись его речи, парень он, по всему видать, башковитый, а именно такие нам и нужны. Словом, передай там от моего имени, пусть оформят бумаги, как положено. Зачислите его на факультет, какой он сам пожелает, чтобы уже с завтрашнего дня мог приступить к занятиям…
Встреча с ректором состоялась у Назима в четверг, в пятницу же впервые вступил он в учебную аудиторию в качестве студента исторического факультета.
* * *
Позади остались превратности, с которыми неизбежно сталкиваются юноши-провинциалы, поселившиеся в дали от родных мест. С каждым днём всё лучше осваивался Назим в новой для него обстановке, и всё более тесными становились отношения между ним и его товарищами и преподавателями. Одно только печалило его: вследствие отдалённости города, в котором он учился, от Чичекли, отцу чрез-вычайно затруднительно было его навестить и поддержать. Назима несказанно уг-нетало его хроническое безденежье. Раструбы пиджачных рукавов его единствен-ного костюма вконец истрепались, зимней одежды у него не имелось, а те копейки, которыми он запасся дома, давно все были истрачены. Жил он только на студенчес-кую стипендию. Однако, что называется, держал форс. Никому и невдомёк было, что он постоянно недоедает. Подобно другим студентам, благополучным и беззаботным, каждый вечер выходил он на прогулку в город. Дни же свои проводил исключительно в учебных аудиториях либо же в помещавшейся на втором этаже институтской библиотеке. Местная библиотекарша, совсем ещё молодая девушка, Разия не могла надивиться его ученическому усердию и благоволила Назиму, ува-жая в нём не только ревностного книгочея, но также завзятого скромника, чуждого суесловия и самоуверенности. Помимо страсти к чтению, однако, была и ещё одна причина его столь длительных посещений библиотеки. Назиму, в его чуть не до дыр протёртой одежде и в прохудившихся башмаках, мучительно стыдно было находиться подле шикующих, небрежно меняющих модную одежду однокурсников из городских. Неизменно бледный, плохо одетый, Назим выглядел в институте некой серой мышью. Многие считали его простофилей-деревенщиной и не ставили в грош. Всё это, конечно же, не было тайной для Назима, и потому он предпочитал держаться от всех особняком. Лишь от одной Разии исходили на него флюиды благосклонности. Кое-кому могло бы даже показаться, будто она влюблена в этого худущего желтолицего паренька-сельчанина.
Со слов товарищей Назим знал, что происходит Разия из очень обеспеченной семьи. Отец её был известным учёным. Трое братьев- все состояли на высоких должностях. Так же и муж её сестры. Однако привлекательна для Назима была она вовсе не вследствие знатности и зажиточности её семьи, и даже очевидная, хотя и не броская красота девушки не была столь уж для него важна – пленила Назима она именно благородством своей натуры и чуткой обходительностью.
Да, Назим влачил жалкое существование, да, пребывал он в сирости и убо-жестве, но в душе этого полунищего печальника сокрыт был поистине невиданный романтический мир. Сердце юноши с упоением откликалось на все красоты и все проявления природы. И только мысль о недоступности прелестнейшего из её соз-даний – ангелоликой Разии - вносила разлад в его ощущение вселенской гармонии. Он мог лишь издали любоваться своим кумиром – как любуются прекрасным цветком в чужом саду, – находясь в постоянном страхе, как бы эту истовую его приязнь кто-нибудь не обнаружил.
Разия стала подлинно всечасной его радостью. Физическое совершенство и духовное целомудрие составляли в ней чарующее единство. И не было в институте никого, кто бы позволил себе подступить к ней с легкомысленным разговором. Для Назима же была она олицетворением духовной чистоты и телесной прелести – во-истину венцом творения. Впрочем, подходя к девушке, чтобы испросить очередную книгу, он ничуть не испытывал приниженности в лучах небесной её красоты. Что же до Разии, то, когда чуть озорные чёрные её глаза встречались с немигающими растерянными глазами Назима, в душе у девушки сейчас же пробуждалась неизъяс-нимая нежность к этому малоприметному бедно одетому парню. Но хотя общение между ними, как обыкновенно между библиотекарем и читателем, и ограничива-лось лишь бесстрастными дежурными фразами, в их отношении друг к другу, едва различимые, просматривались знаки взаимной расположенности.
Как всегда за полдень, Назим принял от Разии очередную книгу и, сунув ту себе под мышку, прошёл к одному из дальних столов читального зала. Склонив-шийся над раскрытой книгой, он, казалось, был всецело увлечён чтением. Однако на самом деле юноша, против воли, внимательно наблюдал за библиотекаршей, от-мечая про себя плавность её движений и деликатность речи и не умея налюбоваться тщательно заплетёнными её косами, достигавшими чуть не подола длинной плисси-рованной юбки. Улучая момент, когда Разия не могла его видеть, Назим исподтишка следил за каждым её жестом. Порой к библиотекарше подгребали модно одетые смазливые парни, якобы справиться у неё насчёт той или иной книги, а в действи-тельности, чтобы попробовать поволочиться за Разиёй. Однако всем своим поведе-нием девушка красноречиво давала понять, что ей ничуть не интересны и даже откровенно неприятны напыщенные и самодовольные молодые хлыщи.
Дотоле не имевший никакого любовного опыта, Назим и сам не умел ещё себе объяснить, чем было охватившее его чувство.
Надо сказать, что у него никогда не вызывали симпатию девицы, которые пытались выглядеть красивее, чем они есть, прибегая для этого к косметике. Как-то друг Назима, художник Эхлият, при нём заметил: если женщина печётся о сохране-нии доброго своего имени – все чаяния её бывают обращены к семье, если же озабо-чена она исключительно своей внешностью, это значит – волнуют её вещи совер-шенно иного порядка. И нет судьбы безрадостней и безнадёжней, полагал Эхлият, нежели у размалёванных красоток. Слова эти крепко врезались в память Назиму. Слава Богу, Разия ничем не походила на барышень легкомысленного нрава.
Удовлетворённость тем обликом, что дан от Господа, есть безусловная чело-веческая добродетель. Однако красота Разии была столь очевидна, что у неё и не могло возникнуть в данной связи каких-либо поводов для роптаний. По ней вздыха-ли чуть ли не все парни в вузе. Однако многие грани прекрасного её естества сокры-ты были от праздных взоров. Держалась она непринуждённей прочих институтских девушек, при том же являя собой образец благонравия. Известно, что красота час-тенько становится причиной морального падения её обладательниц. Однако, наряду с пригожестью, небеса наделили Разию душою столь одухотворённой, что поистине девушку впору было признать непреходящим женским идеалом.
Этими-то несравненными своими качествами исподволь и покорила библи-отекарша сердце бедного Назима, который, подпав под её чары, уже не умел выйти из-под их власти.
Как-то раз, сидя за столом в библиотеке и имея в своём распоряжении лишь красный и зелёный карандаши, Назим начертал на бумаге цветок и глядящего на не-го одновременно с восторгом и безнадежностью, изготовившегося к взлёту соловья – почти птенца. Тогда, ненароком обронившая взгляд на этот рисунок, Разия с лёгкой иронией бросила:
– Довольно жалкое зрелище! – И неожиданно зарделась.
Замечание это привело Назима в растерянность.
– Под трепетными лепестками, бывает, скрываются острые шипы. Оттого-то соловей и не отваживается приблизиться к розе, – промолвил он дрогнувшим голосом.
После этого короткого обмена фразами оба словно бы разом онемели. Разия с поспешностью направилась к книжным стеллажам. Что же до Назима, то, решивший, что своим ответом он нечаянно обидел Разию, и нещадно клянущий себя за неразумие, юноша почёл за лучшее ретироваться – снял со стола полученные от девушки книги и, даже не глянув в её сторону, подался прочь.
К библиотеке и близко не подходил он в течение последующих нескольких дней. Но по их прошествии, не умея долее терпеть муку разлуки с любимой, Назим появился в читальном зале вновь. Когда это случилось, Разие показалось, будто над стеллажами, возле которых она хлопотала, взошла утренняя звезда.
Назим между тем, потупив голову, заказал себе какую-то книгу, по получении которой отправился к давно облюбованному им столу в дальнем ряду. Устроившись тут, юноша подпёр лицо рукой, глянул в окно, на городские улицы, и после непро-должительного раздумья приступил к писанию цидулки. Предназначалась она заду-шевному его другу и наставнику в рисовании, инвалиду войны Эхлияту, человеку, бывшему много старше Назима, но которому, тем не менее, издавна поверял он своё сокровенное. Назим отставил в сторону ручку и опять задумался. Ему трудно давалось находить точные слова для выражения собственных мыслей. И не мудрено – ведь любовь посетила его впервые! Но тут перо, как бы самопроизвольно, вдруг бодро заскрипело по белоснежной гранке, выводя одну за другой строчки:
«Дорогой Эхлият! Вопрос, о котором пойдёт речь ниже, столь тонкого свойства, что толково изложить его на бумаге представляется весьма затрудни-тельным. Однако, поскольку иного наперсника у меня нет, я вынужден именно тебе адресовать путаные мои мысли и рассуждения. Готов предположить, что, пробегая глазами это письмо, ты не однажды улыбнёшься, а возможно, и подосадуешь на меня, что ж, Бог в помощь! Однако если б ты только мог вообразить себе, как в реальности обстоят у меня дела, то, уверен, простил мне мою чувствительность. Признаться, я и сам не умею взять в толк того, что со мной происходит. Любить, пылать страстью – время ли мне сейчас? Я ещё не скоро закончу вуз, не в состоянии переложить на свои плечи заботы Аллахверяна и пока не способен создать фундамент для полноценной семейной жизни. Всё это я отлично сознаю. Однако, как оказалось, существует нечто, чарующе-волшебное, чьей подчинившись власти, человек начисто утрачивает здравый смысл. И открылось мне это аккурат после то-го, как познакомился я с нашей институтской библиотекаршей – Разиёй. В коро-теньком письмеце не описать всей прелести смуглолицей этой девушки. Впрочем, более, нежели чудный облик, восхищают в ней мягкость характера, духовная утончённость и беспримерная добродетельность. Желающим быть счастливыми в браке следует брать себе в жёны исключительно девушек, подобных Разие. Здесь многие на неё заглядываются, по большей части, ребята из обеспеченных семей. Однако ни один не смеет подступить к ней с ухаживаниями. И для меня является полной загадкой, за какие-такие доблести сподобился внимания этого ангела ничем не примечательный безденежный парень-сельчанин. Поверишь ли, только в моём присутствии у неё перестаёт быть напряжённым лицо, а глаза высвечивают ко-кетством. Женившись на столь дивном существе, конечно же, я стал бы счастливей-шим из смертных. И вообразить себе трудно, чтобы на свете сыскалась ещё девуш-ка, в которой в такой же мере нашло бы своё воплощение совершенство. Среди ге-роинь сказок бабушки Фатьмы и читаных мною романов нет ни единой, досто-инствами равной Разие. Объяснения у нас пока не произошло, но я совершенно убеждён, что чувства мои взаимны. И сейчас более всего меня заботит, как-то, выросшая в городе, в зажиточной семье, примет она убогость деревенской жизни, не побрезгует ли сесть на войлочную подстилку, расстеленную перед закопчённым нашим очагом, не отяготится ли покряхтыванием прялки, под которое распевает свои баяты тётушка Фатьма?! Как донести мне до Разии всю горечь моей тоски по родному низенькому дому и по нашему малому, всего-то в тридцать-сорок дворов, сельцу?! Порой меня берут сомнения, а не посмеётся ли надо мной Разия, когда узнает наши сельские уклад и порядки. Но нет, тревоги мои беспочвенны, ей чужды заносчивость и верхоглядство. Правда, если воспитание и воспретит ей прилюдно обнаружить свои гадливость и презрение, это ещё не значит, что они в ней не воз-никнут. Рискну всё же предположить, что ради меня готова претерпеть она любые неудобства, не зря ведь говорят: с милым и в шалаше – рай. Но совесть, она не поз-волит мне принять столь высокую жертву. Никогда не соглашусь я на осуществле-ние моей мечты ценой страданий Разии. Мне хочется всегда видеть её ухоженной, безмятежной, процветающей. И даже если таковой пребудет с кем-то другим, я не стану роптать на судьбу. Ах, Эхлият, Эхлият, будь я теперь в Чичекли, мы бы с тобой подробнейше обо всём этом переговорили. До чего же горька и вместе с тем сладка любовь, доложу я тебе. В какой-то книге я читал, что, дескать, нет муки сильнее любовной, как нет и ничего упоительнее любви. Только сейчас я убедился в совершенной справедливости этого утверждения…»
В этот момент дверь отворилась, и в библиотеку вступил декан. Все встали. Декан оглядел читальный зал и, поочерёдно указав пальцем на троих студентов, в том числе и на Назима, произнёс:
– У меня до вас дело. Следуйте за мной.
Молодые люди встали из-за столов и двинулись к выходу из читального зала.
* * *
Время работы библиотеки подходило к концу, и читатели по двое, по трое стали её покидать. Вскоре уже находилась здесь одна лишь Разия. Прибравшись в помещении, она было также подалась к выходу, когда взгляд её неожиданно упал на стол, за которым давеча сидел Назим. На столе этом, помимо книг, она заметила исписанный тетрадный листок. Не в характере Разии было читать чужие письма, но на бумаге различила она собственное имя и не сумела удержать своего любо-пытства. Ознакомившись с содержанием письма, Разия покачала головой, лицо её тронула улыбка. Но вслед затем девушка внезапно погрустнела, голова у неё закру-жилась. Некоторое время библиотекарша простояла неподвижно, словно бессиль-ная отойти от Назимова стола. Но всё же выйдя из оцепенения, она заперла – не без труда – дверь библиотеки и в компании дожидавшихся её в коридоре подруг напра-вилась в город.
Назим же, вместе с товарищами выполнив в городе поручение декана, вер-нулся обратно в библиотеку, однако нашёл её уже закрывшейся. Парня взяли опасения, как бы оставленное им в читальном зале письмо не было прочитано кем-то посторонним и в последующем разглашено по всему институту. Тогда бы он сделался объектом общих насмешек. До самого утра так и не сомкнул он глаз, а к открытию библиотеки стоял уже против её дверей, опередив Разию, аккуратно причесавшийся и в тщательно выглаженной одежде. Увидев его в столь ранний час, Разия с улыбкой посмотрела на него и приветливо спросила:
– Что случилось? Что делаешь ты здесь в такое время?
– Я вчера поздно вернулся из города, – с виноватым видом ответил Назим. – Книги мои тут остались.
Разия сделала вид, будто не догадывается о побудительной причине его столь раннего появления в библиотеке, и с присущей ей учтивостью ответила:
– Не может быть, если бы остались книги, я увидела бы их.
При этих словах Назим почувствовал облегчение: «Значит, на глаза Разие письмо не попалось».
Девушка вынула из своей сумочки ключ и открыла дверь. Книги и письмо На-зима, разумеется, лежали там же, где он их оставил. Он успокоился: «Хорошо, что она не заметила письма. Иначе я был бы навеки опозорен». Провожаемый украдкой брошенным ему вслед взором библиотекарши Назим покинул читальный зал.
* * *
В понедельник, под конец занятий, в библиотеке царило оживление. Здесь проходил институтский конкурс рисунка. Все столпились перед только накануне сделанным и висящим слева от двери портретом Низами Гянджеви. Преподаватели и студенты восхищённо оглядывали эту работу, исполненную Фахреддином – учащимся третьего курса. Решительно у всех собравшихся вызывал зависть талант Фахреддина. Чуть в сторонке от других находилась Разия. Приблизился к портрету и Назим и, внимательно его осмотрев, с искренним одобрением произнёс:
– Недурно нарисовано, совсем недурно.
Стоявший рядом с ним высокий румянощёкий парень при этих словах отступил на шаг и удивленно воззрился на Назима:
– Что-что?! Говоришь: «недурно», и всего-то?! – И расхохотался. – Уж если такой ты способный в рисовании, давай-ка сам сработай нечто подобное. Не по вкусу чужой пирожок – предъяви свой пирог. Вот ведь заносчивый какой малый!
Сказанное этими двумя привлекло внимание всех собравшихся. Кто-то с язвительностью воскликнул:
– Что он может понимать, это же деревенщина! Стоит ли придавать значение его оценкам?!
Все засмеялись. Назим попеременно то бледнел, то краснел. Особо тяготило его то, что вся эта сцена разыгралась в присутствии Разии. Ни за что на свете Назим не пожелал бы на виду у неё подвергнуться публичному осмеянию. Испортилось настроение и у Разии. И, чтобы не видеть более унижения Назима, она удалилась к книжным стеллажам. Тот же, оставив безответной нанесённую ему обиду, стрем-глав выскочил из библиотеки.
Весь день не мог прийти он в себя. Как ни старался юноша, ему никак не удавалось отвлечься от впечатления, произведённого на него давешним происшествием.
С того дня в библиотеке Назим больше не появлялся. Тем не менее, всеми своими помыслами пребывал он подле Разии. Назим напряжённо раздумывал, как бы ему оправдаться в глазах девушки. Как-то в один из вечеров он заглянул в свой чемодан, посмотреть, что там у него имеется из рисовальных принадлежностей. В углу чемодана обнаружил он три неиспользованные кисти. То был подарок его дру-га – художника Эхлията. Сколько же картин нарисовал Назим подобными кистями! Однако после поступления в институт юноша рисование забросил. Погнавшийся за двумя зайцами, решил он, ни одного не словит. К тому же и надлежащими ус-ловиями для занятий рисованием он здесь не располагал. И вот теперь позабытый подарок Эхлията неожиданно оказался кстати. Назим твёрдо вознамерился на оче-редном конкурсе всем показать, какой он художник. Но для исполнения данного намерения одних кистей, понятно, было мало – требовались и холст, и масляные краски. А где их было найти в небольшом городке, да ещё и в первые послевоенные годы! В магазинах даже добротной бумаги и акварельных красок было не сыскать. Задача казалась невыполнимой. После предпринятых им довольно продолжитель-ных поисков Назиму всё же удалось разжиться более или менее приемлемого качества бумагой – географической картой, размером в квадратный метр. Обратная сторона карты была вполне пригодна для рисования акварелью. Но как же быть с самими красками?! Назим обошёл все магазины города, однако совершенно безус-пешно. Наконец он вынужден был обратиться к местным красильщикам пряжи.
Вначале юноша заглянул в соответствующий цех, что был поблизости от института. Кряжистый мужчина лет тридцати-сорока, посверкивающий двумя золотыми зубами и покрытый серебристой шапкой, вынимал из котла шерстяные нити, с которых стекала подкрашенная вода, и развешивал их для просушки на специальных крюках. Назим поздоровался. Не глянув на юношу, красильщик сквозь зубы ответил на приветствие и спросил:
– Что надобно?
– Мне бы сухого красителя нескольких цветов, по половине чайной ложки каждого. Я заплачу.
– Если у тебя имеется пряжа – приноси, – желая поскорее отделаться от Нази-ма, проговорил красильщик. – Покрашу в любой цвет, какой скажешь. А вот сухого красителя дать не могу. Сами с трудом его находим. Здесь щепотку раздобудем, там…
Назим ушёл из красильни в полной подавленности.
В следующий раз он предпринял поход в цех, находившийся в конце цен-тральной улицы города. Пожилой красильщик, дав указания своему, в проволглой одежде, помощнику, куда-то затем его отослал.
– Дядюшка, здравствуйте, мне нужна ваша помощь, – обратился к мастеру Назим.
– Говори, сынок, я тебя слушаю.
– Ни в одной лавке города не нашёл я красок. Может быть, вы поможете – мне нужно её всего-то нескольких цветов. По чайной ложечке каждой, и даже по пол-ложечке. Я не прошу о подарке, я заплачу.
– Сынок, рад был бы тебя выручить, но только просишь ты, право же, о невозможном. Всем поклясться могу – и щепоткой уважить тебя мне нечем. Было бы – ну что есть такое краситель! – никогда бы не отказал. Мы ведь им-то, сухим, отроду не пользуемся. Красим дедовским способом: соком держидерева, корой граната, шелковицы и карагача, мочой скотины, корнями растений… ну ещё там всякими травами… Из пряжи, крашенной химией, никогда не соткать достойных килима, джеджима1 или же паласа! Помоешь его или под солнце выставишь – вот и вылинял, всё, выбрасывать можно. А наши краски вечные. Ни за что не поблёкнут, пока вещь вконец не износится.
Словом, и здесь Назима постигла неудача. Он побродил ещё по городу, а пос-ле наведался в цех, что располагался у входа на центральный рынок. Пожилой худой красильщик с морщинистым лицом поднялся с самодельного, покрытого овчиной табурета.
– Слушаю тебя, сынок, – сказал он. – Что ищешь?
– Дядюшка, ищу я сухой краситель. Деньги у меня есть, вот только нигде не могу я найти то, что мне нужно…
– А какого цвета он тебе надобен?
– Охра, чёрный, оранжевый, зелёный и малиновый, и каждого хотя бы по половине чайной ложки.
Пожилой мастер молча ушёл в глубь помещения, вырвал там из выцветшей ученической тетради пять-шесть листков и свернул из них кулечки, в каждый из которых ссыпал порошка больше, чем было запрошено.
– Пожалуй, этого мне будет много, – произнёс Назим. – Отсыпьте, по-жалуйста, на десять рублей, у меня не так уж много денег.
Однако мастер проигнорировал слова юноши и молча вручил ему целых во-семь кулёчков с красителем. Когда же Назим полез в карман за деньгами, красиль-щик промолвил:
– Никаких денег не надо, сынок. Используй то, что мной дадено, во благое дело. Я вижу, ты студент. Если понадобятся ещё – приходи. И если что-либо другое – тоже. Не стесняйся. У застенчивых, говорят, дети не родятся...
* * *
Уже несколько дней Назим не досыпал. Дни и ночи напролёт он либо тру-дился над портретом Низами Гянджеви для очередного конкурса, либо же сидел над конспектами и учебниками. Наконец приспел день конкурса, и с полностью готовой картиной юноша пришёл в библиотеку. Когда Назим навешивал портрет на стену, избрав для его экспозиции самое выигрышное в зале место, сюда же пожаловали ректор института Валияддин Магеррамли и директор художественного техникума Хасайбейли. Оба стали осматривать выставку. Директор техникума, известный художник, с особым вниманием отнёсся к изображениям Низами, выполненным Фахреддином и Назимом.
– И у Фахреддина работа неплохая: аккуратно выписанная, очевидно сходство с каноническим обликом поэта, – обратился он к ректору. – Но работа Назима – тут слов нет, это произведение профессионального художника. Хотелось бы познакомиться с автором.
Ректор указал ему на стоявшего в сторонке худощавого парня в невзрачной одежде.
– Услышать об удальце храбреце – и не увидать его воочию!.. Автор картины – вон тот паренёк-курд. – И прибавил: – Я хорошо знаю его семью. Известно: лишь добрый корень отменный же даст всход. Его отец, Аллахверян, – бессребреник и доброхот. В своём краю человек уважаемый. Однако я и предположить не мог, что у него вырос столь талантливый сын.
Ректор с гордым видом положил руку на плечо Назиму.
– Молодец! – одобрил он. – Хлеб Аллахверяна-киши впрок тебе пошёл.
– Послушай, если у тебя такой талант, почему ты обучаешься здесь? Ведь ты настоящий художник! – выступил вперёд Хасайбейли.
Назим стоял, устремив на стеллажи совершенно бесстрастный взгляд, и лишь время от времени кивал в ответ на расточаемые ему похвалы.
Прознавшие о выставленной в библиотеке новой картине, студенты пришли на неё взглянуть. Были среди них и те, кто совсем недавно потешался над Назимом. На лице одного из них – одетого в модный костюм румянощёкого – видны были одновременно чувство вины перед автором портрета, а также зависть к мастерству новообъявившегося художника. Что же до Разии, с изумлением наблюдавшей со стороны за происходящим, то Назим, невозмутимый и сосредоточенный, представлялся ей неким полководцем, только что победившим в сражении, и девушке чрезвычайно приятно было сознавать, что этот «триумфатор» – тайный её вздыхатель.
О ничем до сих пор не примечательном студенте заговорил весь институт, и те, кто доныне смотрел на Назима сверху вниз и ни во что его не ставил, теперь за-видовали неожиданной славе этого парня из далёкого горного села. В поведении же Назима, в его обхождении с однокурсниками ничего не поменялось. Он нисколько не выказывал заносчивости и, даже напротив того, держался с ещё большей скромностью.
* * *
Хотя Назим давно дописал письмо своему другу, отправку весточки он всё откладывал. Ведь та случайно могла оказаться в чужих руках, и тогда он стал бы посмешищем у всего Чичекли. Не приведи Аллах, засудачили бы о нём вовсю: видали, дескать, сынок Аллахверянов – ещё института не окончил, а уж надумал осчастливить своего отца хлопотами по устройству свадебного торжества! Дескать, у парня молоко ещё на губах не обсохло, а он уж туда же – на девиц заглядываться! Если подобные разговоры дойдут до слуха Аллахверяна, последний до конца своих дней от позора не оправится и, несомненно, рассудит так: единственного сына Бог послал, и тот дураком оказался, самостоятельно ещё штанов себе купить не может, а уж за девками бегает, да и какова зазноба у него – поди знай!
В сущности говоря, тревожило Назима больше всего именно то, что содер-жание его письма каким-то образом станет известно отцу. После смерти матери сын испытывал удвоенную нежность к Аллахверяну. Тот сумел заменить мальчику покойную Фирангиз. В глазах Назима большие, мозолистые руки отца-землероба воплощали собой саму надёжность. И вот теперь парень очутился перед нелёгким выбором. В его юношеском сердце друг против друга стали два самых любимых им человека: отец и идеал женской красоты – Разия. И в своём выборе юноша не мог переступить через свою привязанность ни к одному из них.
Как-то раз, хотя был уже поздний вечер, Назим вышел на прогулку в обса-женный деревьями институтский двор. На бездонном, чистом, без единого облачка небе весело поблёскивали звёзды. Назим, по своему обыкновению привалившись к стволу шелковицы, устремил к ним умилённый взор и задумался. В полной луне увиделось ему некое волшебное зеркало, в котором отразилось Чичекли – окружён-ное величественными горами место его рождения. В эти мгновения и телом, и душой он словно бы слился с малой своей родиной. И тут вдруг откуда-то послы-шалось Назиму до боли знакомое позванывание – голос косы, которой выкашивал Аллахверян траву вместе с цветами в долине Язы. Юноша даже явственно ощущал сейчас её аромат и лицезрел отца, со сластью пьющего воду из кувшина, который всегда держал под кустом, чтобы та подольше сохранялась прохладной. В своём воображении парень подошёл к отцу, который, выставив одну ногу вперёд, своей косой-«десяткой» укладывал траву. Назим почувствовал острый запах пота, выступившего на белой отцовской рубахе, и неожиданно ощутил полнейшее блаженство... которое нарушил шорох крыльев слетевшей с дерева птицы. До сих пор юноше казалось, что он въяве пребывает на целомудренной, исполненной покоя родной земле. Увы, это была всего только зыбкая иллюзия!..
…Назим порвал и сжёг своё письмо. Нет, рассудил он, нельзя рисковать репу-тацией отца: девушек на свете много, а родитель, он один, и недопустимо, чтобы старика постиг срам из-за его сына. У Назима впереди ещё годы учения, вот окон-чит вуз, поступит на работу, станет зарабатывать, выплатит долг отцу, тогда-то и… Брак – вещь, хоть и необходимая, но с ним покамест можно и обождать. Всему свой срок. Прежде чем решиться на женитьбу, надо всё хорошенько взвесить, обдумать. Между тем у Назима даже объяснения ещё не было с его возлюбленной. Может, у Разии совсем другие виды на ближайшее будущее? Может, она уже помолвлена с кем-то? Да и согласится ли она ради него оставить город и перебраться в деревню? Не поставит ли условием заключения между ними брака переезд Назима в город? Всё это надо знать наверное. Впрочем, не похоже, чтобы такая разумная девушка, какова есть Разия, захотела бы иметь супруга, покорного её воле. Едва ли она пожелает, чтобы Назим бросил отца и переехал в город. Парень, будь он хоть самым распрекрасным, ради невесты предавший собственного родителя, никогда бы не пришёлся по сердцу Разие, напротив того – наверняка вызвал бы у неё презрение. Нет, нет, его Разия не такова! И в первую очередь привлекает его, Назима, в ней её благомыслие. Сказывают: ум у красавицы в её лодыжках. Однако совершенно очевидно: слова эти для характеристики Разии не годны…
Да, Назим уничтожил написанное другу письмо, однако пригасить пламень своей любви оказался бессилен и теперь упорно искал случая для объяснения с Разиёй.
Между тем в городе намечено было проведение важного официального меро-приятия, к участию в котором были привлечены в том числе и все студенты и препо-даватели института.
В тот день Назим был дежурным по институту. В здании стояла гнетущая ти-шина. Лишь изредка в коридоре общежития появлялся кто-либо из студентов. Биб-лиотека, как и учебные аудитории, была пустынна. Одна только Разия находилась тут: сидящая за своим столом, она что-то записывала в тетрадку.
Назим открыл дверь в библиотеку и вошёл. При виде его Разия вздрогнула, но затем взгляд её засиял, как рассветное солнце. Забыв про лежащие перед ней бумаги, она почтительно привстала. Назим пришёл сюда открыть библиотекарше тайну, которую уже давно хранил в своей душе. Однако, то ли от радости обретения такой возможности, то ли от волнения, у него спёрло дыхание. Он не мог знать, как воспримет его признание эта девушка с излучающим целомудренность взглядом, и потому долго не решался к ней обратиться. Разия поняла его состояние, и сердце её затрепетало, как у перепёлки, угодившей в соколиные когти.
– Разия, – краснея, произнёс Назим; в горле у него пересохло, язык запле-тался. – Мне хочется кое о чём переговорить с вами, но я никак не могу найти для этого подходящие слова. Для меня необычайно трудно начать задуманный разговор. Я будто во сне. Ещё недавно я и помыслить не смел, что так вот, как сейчас, буду стоять лицом к лицу с вами – девушкой, которую полюбил я каждой клеточкой моего существа.
Разия потупилась, но тотчас же подняла лицо, пожелав взглянуть на Назима, однако сделать это так и не отважившись. Пытаясь совладать с охватившим её смятением, она некоторое время провела в безмолвии.
– Я тоже о вас думаю, – наконец промолвила она. – И хорошо понимаю вами сказанное, Назим! Вижу, каким напряжением душевных сил даётся вам ваше, воз-можно первое, признание девушке. Не правда ли, я не ошиблась в моём предполо-жении? Хочу сказать, что у дома, построенного на фундаменте любви, даже дымоход источает аромат луговых цветов. И ещё: покряхтывание прялки бабушки Фатьмы и распевание ею баяты стали бы для моего слуха подлинно гимном согласия в доме, где родился и вырос парень, достойный самой горячей женской привязанности. Также я согласна с вами в том, что сын, забывший о почтении к своему отцу, не достоин зваться мужчиной. Подобные люди и в супружестве обычно выказывают вероломство...
На лице Разии теперь не углядеть было столь присущего ему робкого вы-ражения. Её исполненные откровенности слова, казалось, встряхнули Назима. Естественно, из них он со всей очевидностью понял, что библиотекарша знакома с содержанием злополучного письма. Но из соображений вежливости он ничем не выдал этой своей догадки.
Казалось, перед Назимом уже не прежняя – мягкая и улыбчивая, Разия: глаза её вдруг оплеснули юношу волнами пламенного укора, а лицо от минуты к минуте всё более серьёзнело. Взор девушки преисполнился гордости. Не без иронии она заметила:
– «Я вас люблю!»... Торжественное выражение душевного трепета!.. Какими ещё могут быть слова первых признаний влюблённых парней!.. И рабы своих страстишек, намеревающиеся соблазнить девицу, а затем её бросить, и те, кто, пылко полюбив, полон желания вступить с нею в законный брак, – все поначалу говорят одно и то же. Однако лишь внешняя красота женщин в первую голову привлекает исконных ветреников – мужчин. Редко даётся им осознание той истины, что за телесной прелестью чаще всего прячется самая порочная суть, что красота плоти – преходяща и лишь духовная – вечна!
Загадочные фразы Разии ввергли Назима в такое волнение, какое испытал бы он, лишь оказавшись тёмной ночью перед лицом неведомой опасности на горных перевалах родного Чичекли. По телу его пробежала дрожь. Он не мог поверить, что девушка эта – прежняя, давно ему знакомая Разия, как не мог уразуметь и причины, по какой та заговорила с ним столь резко. Ему хотелось оборвать Разию, чтобы направить разговор по иному руслу. Однако библиотекарша не позволила этому намерению осуществиться, с изящным протестом вскинув руку:
– Прошу вас во имя святого чувства, причиняющего вам столь нестерпимые страдания, простить мои слова. Ведь высказала я их, находясь в твёрдом убеж-дении, что имею своим собеседником подлинно великодушного и благородного человека, которого высоко ценю и в котором, как я надеюсь, встречу искреннее сочувствие. Не выслушав меня до конца, боюсь, после вы составите неверное мне-ние обо мне и сочтёте опрометчивым своё сегодняшнее признание. В последующем же все возможные извинения и оправдания в данной связи, полагаю, окажутся неуместными и бессмысленными.
Назим вперился в девушку оторопелым взором. Разия между тем продолжала с ещё большими решительностью и воодушевлением:
– Сама не знаю – почему, но впервые почувствовала я настоятельную потреб-ность в том, чтобы рассказать кому-то о накипевшем у меня на сердце. Наверное, многие считают меня особой, вполне беспечальной и всем облагодетельствованной Аллахом. Многие, быть может, даже мне завидуют. Действительно, впрочем, таких немало. Но никому и невдомек, что на самом деле я – несчастнейшее на земле существо. – Облик у Разии сделался печален. Две слезинки, выскользнувшие из-под длинных ресниц девушки, алмазной зернью засияли на гладких матовых её щеках. Наконец, взяв себя в руки, дрожащим голосом она произнесла: – Назим, мне не хотелось бы открывать вам моего секрета, чтобы не прибавлять ещё одной неприят-ности к тем, которых у вас и без того немало. В этом случае некоторое время и даже в течение лет, возможно, утешались бы вы надеждой на счастье со мной. Допускаю, что и мне от этого было бы покойней. Однако вынуждена сказать: после нашей сегодняшней встречи все чаяния ваши на мой счёт обратятся в прах, и я заранее пребываю в отчаянии при мысли о том, что вскоре приведётся вам перенести. – Разия побледнела; её печальные глаза вновь наполнились слезами. – Назим, я пролистываю перед вами – человеком, бесконечно мне дорогим, доселе сокрытые от других страницы моей жизни. Итак, нас – трое братьев и две сестры. Благодаря отцу все встали на ноги. У всех хорошая работа, дом – полная чаша, много друзей – да не лишит нас этого Аллах! Но случилось так, что я сделалась единственной опорой моим родителям. – Разия сокрушённо вздохнула. – Однажды… Мой сред-ний брат поступал в институт и на последнем экзамене получил неудовлетвори-тельную оценку. Отец был сам не свой и спустя несколько дней слёг. К нему были приглашены лучшие врачи, в том числе из самой Москвы. Однако целых десять лет исцелить его не удавалось. Но всё же сильные снадобья, лечение в привилегиро-ванных санаториях сделали своё дело, и он, наконец, чуть-чуть оправился. Физик по профессии, хотя и с неимоверным трудом, но защитил-таки он докторскую диссертацию. Однако два года назад отца опять постигло несчастье. В лаборатории, где он работал, во время эксперимента произошёл по вине аспиранта взрыв. У отца обгорели лицо и руки и были повреждены глаза. Врачи едва сумели вытащить его с того света. Однако зрение к нему так и не вернулось. Отец лишился его навсегда. Моя старшая сестра – Маргуфа – сейчас находится в Москве, вместе с мужем, обучающимся в Высшей партийной школе, и потому не может часто навещать ро-дителей. А братья… – Разия на мгновение умолкла, после чего с иронией заметила: – Как бы там ни было, но это – ближайшие родственники, мы с ними рождены от одного отца и вышли из чрева одной матери! В общем-то, они молодцы – благодаря отцу смогли сесть на хорошие должности! Ну зачем, спрашивается, им теперь бес-помощный калека?! У каждого – жена, дети, шикарное жилище… Ради приличия раз в год они к нам, впрочем, наведываются. Да и то – как! Словно бы с одной целью: накалить обстановку у нас в доме! Что тут скажешь, сердце человеческое – не море бескрайнее! Сейчас сердцами братцев всецело завладели их благоверные, изгнавшие оттуда и свекровь, и свёкра. Ещё когда обретались эти молодки у нас, меня всечасно оскорбляло их подчёркнутое безразличие к моим отцу и матери. Когда братья выказывали нежность к старикам, невесток, казалось, кипятком окаты-вало. Но как только между сыновьями и родителями случались размолвки и трения, те же гадюки обращались для своих мужей в воркующих голубок. С той-то поры и стала ненавидеть я самое слово «невестка», твёрдо решив, что никогда и ни за что сама не выступлю в этом качестве. Не хочу быть ничьей невесткой, кроме прочего, и потому, что не уверена, а не стану ли я, выйдя замуж, ещё подлей, лицемерней и бессердечней, чем жёны моих единокровных! – Вдруг Разия стала задыхаться. Её трогательный взгляд походил теперь на вспышки заходящего солнца, лицо тронула улыбка растерянности... – Всегда хотела я выйти замуж за человека, чью му-жественность подтверждали бы не папаха, не штаны и не борода, а непреклонность воли, сила убеждений и высокое личное достоинство. Всегда хотела иметь мужа, любую прихоть которого исполняла бы я с искренним рвением и, живя с которым, неизменно испытывала бы почтительность к нему и радость блюдения собствен-ного женского долга!
Назим вздрогнул и, не удержавшись, воскликнул:
– Есть ли такой человек, Разия?! Могу ли я чем-либо вам помочь?!
Ресницы Разии вскинулись вверх, и полные влаги, как весенняя тучка, её глаза глянули в истово горящие глаза Назима.
– Человек, которого я нашла, но которого неизбежно потеряю, вы, Назим! Конечно, наверно, это предосудительно, когда девушка этак, не обинуясь, делает подобные заявления хотя бы и человеку своей мечты. Готова с этим согласиться. Но, однако, к сказанному хочу прибавить: в моём представлении мужи, в суровых тру-дах добывающие себе хлеб, стоят несравненно выше синекурных щёголей-шарку-нов, драгоценностями увешивающих своих милашек. И пусть мне рано ещё о том судить, но я уверена, что только подле мужчин основательных женщины навсегда сохраняют благонравие. И вот с таким-то именно человеком, наконец, свела меня жизнь, однако ж рок установил между нами неодолимую преграду...
– Разве может быть большая награда, чем любовь такой девушки, как вы, Разия?! – Назим задумался и прибавил: – Как приятно было мне услышать ваши слова...
– Бесспорно, обрести чаемое – великое счастье. Но, к сожалению, это навеки нам заказано.
Назим изменился в лице:
– Что такое вы говорите?!
– Сейчас мой долг – служение одряхлевшему отцу с матерью. Вы и не представляете себе, как преображается обожжённое его лицо, стоит мне только вернуться с работы домой. Никогда не посмею лишить страдальца этой единствен-ной его радости ради суетной страсти и любовных услад. Да, иного удела мне не дано по милости моих братьев, превращённых их благоверными в безвольных рабов. Говорю же всё это я лишь с одной целью – чтобы рассеять любые возможные недоразумения на мой счёт. Уж вы простите девице её трескотню. Вскоре предстоит мне отвезти моих к сестре, в Москву. Пока Сулейман не закончит учёбу, мы будем находиться там. А куда после отправимся – и сама не ведаю. Поверьте в моё чистосердечие: даже если и не суждено мне соединиться с таким парнем, как вы, о котором я всегда молила Аллаха, то жить памятью о его любви и о проведённых с ним чудных мгновениях само по себе есть несказанное утешение. Даю слово до конца дней моих память эту сохранить. И ни в чём не переубеждайте меня – это бесполезно. Пусть останется непорушной тесьмой наша с вами тайная для всех любовь. И пусть пребудет эта любовь вовеки!
Вдруг мечты Назима разом рассыпало в прах. Ему казалось, что земля уйдёт сейчас из-под его ног и он провалится в бездонную пропасть. Помутнелый взор юноши всё ещё был прикован к трепетным устам возлюбленной. Что ответить ей – парень решительно не знал.
- Разия!.. Разия!.. Разия!.. – хотелось крикнуть Назиму, но в голове его царил полнейший хаос, и сложить слова во внятную фразу он был не в состоянии.
Чувствуя собственную вину в том, что любимый её повергнут в столь глубокую скорбь, библиотекарша отвернулась от него и скрылась за книжными стеллажами; до Назима сейчас же донеслись её сдавленные рыдания. Для чуткой его души невыносимо было воображать, как влага газельих глаз напитывает ости-ресницы и стекает с них по горячечным девичьим щекам. Нетвёрдой походкой Назим вышел из читального зала.
* * *
Всё вокруг уже было погружено во мрак. Тока от работавшего на мазуте институтского электрогенератора едва доставало для освещения территории вуза.
Назим не мог оправиться от беседы с Разией. До самого утра не сомкнул он глаз. Утром, придя в библиотеку, он нашёл её двери запертыми. Открылась она лишь через три дня. Управлялась здесь незнакомая молодая женщина. Назим спросил у неё насчёт Разии. Новая библиотекарша замялась:
– Право слово, не знаю, отсюда она уволилась! Да сгинут пустобрёхи, но говорят, она вместе с семьёй уехала из города навсегда.
Ответ этот оглушил Назима, подобно удару кувалды. Голова у него закружилась: парень едва не грянулся на пол. Кое-как доплёлся он до ближайшего стула и рухнул на него, сжав голову руками и закрыв глаза. Ему казалось, будто Разия присутствует рядом, по своему обыкновению чем-то занятая подле книжных стеллажей, а возможно, жалостно поглядывая на своего возлюбленного из какого-нибудь укромного уголка.
Вдруг, резко вскинув голову, Назим открыл глаза. В отсутствие Разии библиотека представлялась ему теснящим сердце узилищем. Парню мнилось, будто бы и широкие окна, и решётки на них, и аккуратно расставленные столы и стулья, и висящие на стенах картины – всё здесь исполнено тоской по Разие. Книги же, которые та согревала своим прикосновением и мягкой улыбкой, сейчас, словно обретя речь, упрямо спрашивали у Назима: и что-то сталось, дружок, с твоей возлюбленной? Безмолвный вопрос, ответить на который было нечего. И понурившийся Назим убрался из библиотеки.
* * *
Напряжённые занятия, трудности первой сессии, неразрешимая материальная проблема и прочее – следствием всех этих переживаний стало то, что боль разлуки с любимой в Назиме несколько поутихла. Да и Разия со временем перестала являться ему в снах. Больше не виделись они тёмными ночами, в которые прежде не просто поддерживали, но ещё жарче распаляли друг в друге пламень любви. Однако, хоть и лишь тлеющий теперь, пламень этот оставался неугасен…
* * *
Когда по окончании института Назим вернулся в родное село, в дом Аллахверяна нахлынули с поздравлениями родственники, знакомые и соседи.
Не в привычках Аллахверяна было проявлять чувствительность. Так, детей своих никогда он не целовал и с ними не сюсюкал. Голубишь ребёнка, – бывало, говаривал он, – погубишь ребёнка. Но в этот день, пожимая Назиму руку, старик не удержался – коротко улыбнулся, полными любви глазами глянул на сына и крепко прижал его к груди.
Когда гости разошлись и отец с сыном наконец-то остались друг с другом наедине, Аллахверян сказал:
– Сынок, слава Аллаху, своими силами сумел ты окончить институт. Это большое дело. И спасибо Валияддин-муаллиму, не забыл-таки наше добро. Ты стал уже взрослым мужчиной и теперь должен поступать так, чтобы люди в тебе не разо-чаровались. Где бы ни работал, думай прежде всего о сохранении доброго своего имени, а не о желудке и кармане. Живи так, чтоб не посрамить наш род. А учи-тельство, что ж, - это хорошая профессия. Куда направят тебя, туда, уповая на ми-лость Аллаха, и поезжай. Будь со всеми добр и приветлив, не то бед не оберёшься. Истинно благословен тот, кому ниспосылается много друзей. Человека ценят по делам его и душевным качествам, – напутствовал Аллахверян сына, не глядя тому в лицо.
Понурив голову, Назим впитывал в себя слова отца.
…Молодой педагог хлопотал о направлении его на работу в чичеклинскую школу. Это, во-первых, позволило бы ему остаться в семье, а во-вторых, заведомо сняло бы неизбежную в противном случае жилищную проблему. Однако, когда всё уже, казалось, было улажено, в дело вновь вмешался рок, и оно у Назима не выгорело. В результате был распределён он в далёкое горное сельцо. От Чичекли до этого места было аккурат полдня пешего хода.
* * *
Первые дни по приезде туда Назим безуспешно искал себе жильё, вынуж-денный ночевать в одном из школьных помещений. Однако местная уборщица, Тамам-арвад, поприглядевшаяся за это время к юноше, вскоре предложила ему постой в пустующем доме её брата. Дом этот с превеликими трудами был построен его хозяином, который, только-только наладив свой быт, уже надумал было же-ниться, когда счастье внезапно отвернулось от него – началась война, и он получил повестку на фронт. С той-то поры и стоял очаг нетоплен.
Война закончилась, и выжившие в ней сельчане-фронтовики давно уже во-ротились все домой. Только лишь о брате Тамам не было ровно никаких известий. У той же духу не хватало водвориться в братнином жилище. Изредка, правда, наве-дывалась она туда – прибраться, почистить ковры и килимы, проветрить постель, но, управившись со всем этим, сейчас же отбывала восвояси, не умея находиться здесь долго. Так-то во все эти годы никто, кроме неё, сюда и не вступил.
– Будь же мне заместо пропавшего брата, – вручая Назиму ключ, сказала Тамам. – Если вздумаешь взять себе какой утвари из Чичекли, ты этим сильно меня обидишь. Это путный очаг, и есть тут всё, что требуется для жизни. Постель, одежда, посуда – всего вдоволь. Живи-поживай себе на здоровье, сколько душе угодно. Думаешь, верно: ишь, ни сух-пенёк ни сук-шпенёк, но ты не гляди, я хоть и уборщица, а сердце имею широкое. Знавали и мы лучшие времена. Отец мой был один из пяти знатнейших здесь людей. Но пришла советская власть, схватили бедного да и невесть где сгноили. А вскорости и мать нашу призвал к себе Аллах. И остались мы с братом моим круглыми сиротами. Грех, конечно, но всё же скажу: повстречался мне до войны ладный такой парень. Однако только было мы с ним обустроились, как и его вслед за братом на фронт угнали – и тоже ни слуху ни духу. Как будто обоих одна топь к себе прибрала. Этак, значит, дом брата пустым и остался, а я… с сиротами на руках под прохудившейся крышей. Спасибо нашему директору. Что ни говори, а человек он хороший. Вот, в уборщицы меня определил. Ещё и в колхозе подрабатываю. Худо-бедно кормимся. – Тамам поправила на лице яшмак и продолжила: – Эта пухленькая девчушка, что возле нас кружит, – моя дочь, Басира, старшая. А умница какая!.. Но с девочкой – хлопот!.. Справедливо сказано: дочь родил – вьюк взвалил! Растить хлопотно…
Все три года, что проработал Назим в этом селе, жил он в доме без вести про-павшего солдата. И всё то время по-отечески заботился о детях Тамам. Несмотря на небольшие свои лета, в короткий срок снискал он у сельчан высочайший авторитет. На него здесь чуть не молились. Написать письмо, заявление, жалобу – за всем этим обращались исключительно к нему. То же и в сельсовете, в колхозном управлении и в школе: составить по форме протокол заседаний сельсовета, официальное пись-мо или другой любой документ – как же тут без Назима! Однако самыми хлопотны-ми для него становились дни выборов, когда приходилось составлять бесконечные списки избирателей. Сельчане взяли себе в обычай всеми радостями своими и бедами непременно делиться с молодым учителем. Кроме прочего, был он ещё и постоянный докладчик на всех посвящённых воспитанию молодежи собраниях, происходивших как в самом селе, так и в райцентре.
Откуда-то до Аллахверяна дошёл слух, будто Назим нарядился жениться. Старик очень этому обрадовался, но, однако, радости своей не обнаружил, а стал исподволь вызнавать о семействе сыновней избранницы. Выяснить же удалось ему следующее: девушка из зажиточного семейства, но отец у неё – человек пренегод-нейший, а мать – так и вовсе известная на всю округу сварливица и склочница. И вот в одну из побывок сына в Чичекли Аллахверян затеял с ним мужской разговор.
– Назим, – с серьёзностью начал он. – Если бы Фирангиз была жива, я б не приступал к тебе с этим. Но так уж случилось, что тебе я и за отца и за мать. Брак, сынок, такая штука, которую прежде необходимо не спеша хорошенько обдумать. В сущности говоря, жениться тебе сейчас самое время, ты даже припоздал с этим на пару-тройку лет. Деды говаривали: за тем печаль не водится, кто рано женится и рано же разводится. То есть я хочу сказать: коль розы восхотел – с цветника её сорви. Пойми, негоже смешивать нам свою кровь с пёсьей. И зря пленяешься ты смазливым личиком. По мне, так хоть лягушкой будь, но только – из чистого пруда. Это, конечно, бесспорно: коли по сердцу лада, другой тебе не надо. Но ты должен и о нас подумать. Ведь вопрос тут – семейный. Небось не к козе прицениваешься, которую сегодня приглянулась – купил, завтра опостылела – продал. Семью строить – всё равно что дом. Фундамент надлежит закладывать такой, чтоб назавтра не треснул. Говорю ж тебе это я затем, чтобы ты серьёзно умом пораскинул. Поздним раскаяньем греха не замолишь!
Глядя в пол, Назим в молчании слушал отца, смущённый и зарумянившийся. Он уже принял решение.
Старая Фатьма, краем уха также слыхавшая про Назимово жениховство, ус-пела предусмотрительно приискать для племянника невесту «про запас» – милую девушку из соседнего села, врача по специальности. Однако Аллахверян не захотел оказывать давление на сына в вопросе выбора жены. И вот старуха почла необходи-мым встрять в мужской разговор с собственными соображениями по его предмету.
– Аллахверян, он словцо обронит, а пять сглотнёт, – обмолвилась она. – Труд-но, видишь ли, ему, сынок, быть с тобой полностью откровенным. Дело же, милый, состоит в том, что зазноба твоя – совершенная пустышка. Да, хороша личиком, но только ведь личико – не блюдо: плова с него не поешь. Говорят ведь: и псу нальёшь белыш-айран, изюм же чёрный весь – в карман. Главное для девицы – это сознатель-ность. Твой старик кое-что прознал об их семействе и рассудил: с ними в казане од-ном вариться – хоть целый век, но повязываться родством – никогда. По его словам, у Мешади Умуда из соседней деревни есть образованная дочка – Сария. Очень дос-тойная девушка. К тому же и тебе ровня – учительша. Я украдкой приглядывалась к ней – ну просто куколка. А язычок, когда говорит, прямо масляный. В дом нам такую именно и надобно – воспитанная, добрая, образованная… Сынок, мы с твоим родителем не первый день живем, а потому знаем: дом, и перед лавиной устоявший, бабе порушить – как воды испить. Сейчас-то ты ослеплён своей милашкой, вскорм-ленной молоком брехливой сучки. А вот приведёшь её в дом, завтра, глядишь, на отца твоего и меня плевать она, не стесняясь, станет. А коли ещё и ребенка родит, тут уж мы и мёртвых запамятуем – начнём оплакивать живых. Посмотрим тогда, ловко ли тебе совладать будет с этакой гюрзой. Верь: кровью своей умоемся!
Назим обнял Фатьму и засмеялся:
– Тётушка, вчера – отец, сегодня – вот ты... Да что тут столько толковать! Не всё ли в наших руках?! Если кто и свят для меня на свете, так это вы оба. И когда-то ослушался я вашего слова?! Вот же, всполошились. Что же касается той девицы, то будь она хоть из чистого золота, если моя павушка вам не люба, с этой же мину-ты, считайте, я вычеркнул её из моей памяти. Говорите – дочка Мешади Умуда… – Назим на мгновение задумался. – Видел её пару раз – на педагогических собраниях. Неплохое производит впечатление. Но что я могу сказать наперёд? Может, у неё уж и возлюбленный есть. Да и поладим ли мы?
– Ох, да перейдут на меня твои хвори! Мы же не настаиваем: она – и всё тут. Просто помогаем тебе в выборе определиться. Слава Аллаху, человек ты учёный, другим науку преподаёшь, сам присмотрись, да и прикинь так и сяк. Приглянётся – подойди, побеседуй, и если сочтёшь товар добротным, что ж, в добрый путь! А не покажется – кто ж неволить тебя станет?! Принудим ли мы родную кровь к разладу с собственным сердцем?!
…Заручившись согласием как Назима, так и родителей девушки, Аллахверян собрался в сватовское посольство вместе с пятью аксакалами и таким же коли-чеством уважаемых стариц. Мешади Умуд с нетерпением ожидал гостей, за день до этого извещённый об их приходе. В нарушение традиций приготовил он гостям столь пышный приём, какой впору было сравнить с иной свадьбой. Этим, кстати сказать, вызвал он вящее неудовольствие у старшего своего брата – Исбандияра, высказавшегося в данной связи:
– Брат, ты нарушаешь обычай отцов. Двери дома девицы на выданье – что ворота шахского дворца! Отроду такого не водилось, чтобы сватов в их первое же посольство потчевали и поили. Пусть придут во второй, в третий раз. Поторгуемся с ними, потолкуем, а как договоримся – режь для них не одного, а всех пятерых ба-ранов, я слова тебе не скажу. То же, как поступаешь ты сейчас, – дело неслыханное. Хочешь, чтобы толк среди людей пошёл, дескать, Мешади Умуду до того обрыдла собственная дочка, что сваты и ртов ещё не успели раскрыть, как он уж им и согласие своё дал?
На это Мешади Умуд ответил:
– Ты старший брат, и слушаться тебя – мой долг. Однако, что там ни говори, но обычай, который ты помянул, довольно глупый. Всякому гостю, в первый ли раз он приходит в твой дом или в какой угодно другой, положено накрывать на стол. И сватовство тут ни при чём, то есть я хочу сказать: разумней держаться лучших наших традиций, из которых одна из первейших – закон гостеприимства. Сватовство же, имеющее вид торга, – ну что может быть в таком обычае хорошего?!
Исбандияр вынужденно признал правоту младшего брата и не стал более докучать ему своими поучениями.
Наконец явились сваты. Мешади Умуд и Аллахверян обменялись малозна-чащими фразами, лишь затем поведя речь о главном. Оглаживая усы, Мешади Умуд промолвил:
– Аллахверян, я хорошо знаю твой род, ты – род мой. Так зачем же резину тянуть – ступайте, мол, гостюшки, и приходите ещё! Такое не в моём характере. Вступил в мой дом – добро пожаловать, здесь всегда для тебя и хлеб-соль, и постель найдутся. Что же до твоего парня и моей дочки…
Мешади Умуд с Исбандияром заведомо обговорили свои реплики в этой части разговора. И вот после эффектно сделанной младшим братом паузы старший торжественно объявил:
– Да благословит их Аллах, пусть будут счастливы!..
И все собравшиеся, как по команде, опустили в свои стаканчики с чаем кусочки сахара.
* * *
Сария оказалась хорошей невесткой – действительно воспитанной, выдер-жанной, молчаливой: не спросишь её – и слова не проронит. Аллахверян и Фатьма были довольны ею сверх всякой меры. Никто в доме не ведал, когда она спит. В при-сутствии свёкра ни разу не была она замечена в изъявлениях нежности к ребёнку. Никогда не возражала мужу. Слово же Аллахверяна и вовсе было для Сарии не-преложным законом. Старая Фатьма любила говаривать, дескать, человек своим корнем славен. Что ж, в этом смысле бабка могла быть довольна: род Мешади Умуда был из самых почтенных в округе. Назим также доволен был женой и вообще семейной жизнью, однако первая его любовь – к Разие - навсегда угнездилась в глубине его сердца.
* * *
Игнорируя, желает ли он того или нет, раз в два-три года районный отдел образования неизменно переводил Назима на новое место работы. На сей раз был назначен он на должность зам.директора по учебной части в сельскую школу с большим преподавательским и ученическим контингентом. Учителей, опытом превосходивших Назима, имелось здесь немало, некоторые в своё время пре-подавали ему самому. Поэтому новоиспечённый «зам» был встречен с некоторой настороженностью. Многие поначалу приняли его за карьериста-выскочку, который станет пенять всем по каждому пустяку и всласть тешиться собственной властью. Однако очень скоро, узнав, сколь умён и обходителен Назим, коллеги, которые до того косо на него поглядывали, напрочь расстались с прежними своими опасениями.
Никто из преподавателей и учеников не смел ему прекословить. Однако это вовсе не было следствием вящих его строгости и требовательности, нет, авторитет свой утвердил Назим именно своими всесторонней эрудицией, глубоким интел-лектом, а также умением общаться с людьми. Подлинным же счастьем для него бы-ло то, что рядом с ним находилась верная подруга, славная и пригожая дочь старого Мешади Умуда.
Однажды в школу пришло известие о предстоящем посещении села первым секретарём райкома Кямалом Кафарзаде. Жителям района были известны неко-торые из профессиональных привычек этого человека. К примеру, они знали, что по приезде в любое село Кафарзаде первым делом инспектирует местную школу. Так же случилось и в этот раз. Высокий, стройный мужчина с худощавым лицом и яс-ным, умным взглядом, выйдя из машины и обменявшись приветствиями с группой встретивших его преподавателей, Кафарзаде сразу же поинтересовался бытом ребят пришкольного интерната…
Интернат этот, на пятьдесят-шестьдесят мест, построен был в годы войны специально для ребят, потерявших своих родителей. Жили здесь также дети-инвалиды из разных сёл района.
То и дело Кафарзаде останавливался против увешивавших стены вестибюля картин, диаграмм и таблиц, восхищенно их разглядывая.
– И кто же этакую красоту сотворил?
– Назим-муаллим, – отвечали ему.
Кафарзаде заглянул в одну из классных комнат, в которой шёл урок, и вступил в неё. При появлении гостя в сопровождении всех руководителей школы дети мгновенно повскакали на ноги и вытянулись в струнку. Кафарзаде жестом показал им садиться, после чего сам пристроился за одной из свободных парт.
Возле классной доски стоял, застыв, как статуя, ледащий паренёк, которому с очевидностью принадлежало неправильное решение примера, записанного на доске. Вывести мальчика из оцепенения не могли ни отчаянно задаваемые ему на-водящие вопросы, ни мало уместные упрёки учителя. Тот же страх перед внезапно нагрянувшими важными людьми обнаруживала вся детвора. Даже те, кто знал урок, едва ли сумели бы сейчас его ответить. И тут Кафарзаде неожиданно обратился к классному преподавателю:
– Если позволите, я попробую помочь этому милому молодому человеку. Думаю, совместными усилиями мы найдём искомое.
На Кафарзаде обратились изумленные взоры всех присутствующих. Препо-даватель понял, что районный начальник говорит серьёзно, и, чуть улыбнувшись, утвердительно кивнул.
– Как тебя зовут? – спросил мальчика Кафарзаде.
– Вугар, – потупившийся, едва слышно ответил тот.
– И правда, похож на гордеца1. Ну-ка, давай вместе попробуем. – И, выйдя к доске, высокий чиновник стёр с неё тряпкой неверный ответ, а затем, вооружив-шись мелком, стал энергично выводить им плотные ряды цифр. Вскоре уже послед-ними исписана была вся доска. – Сверьте-ка с ответом из учебника! – весь сияя, бросил классу первый секретарь.
Ребята с живостью принялись листать свои учебники и через мгновение-другое нестройно возгласили:
– Ура, учитель! Всё сходится, сходится!
Отерев носовым платком мел с пальцев, секретарь окинул детей ласковым взглядом:
– Учитель здесь не я, а вот он. – И, смеясь, указал на классного педагога. Вслед за тем они с Вугаром вместе отошли от доски, и Кафарзаде водворился за облюбованную им парту.
Первый секретарь был кандидатом философских наук, и для многих стали откровением его познания в математике.
Он побывал ещё в нескольких классах, расспрашивая ребят об их учёбе. Затем принял участие в педагогическом совете школы, на котором с особенным вниманием выслушал доклад Назима. Кафарзаде отметил про себя отменную про-фессиональную компетентность молодого учителя, проникшись к нему искренней симпатией.
Прощаясь с преподавателями, Кафарзаде крепко пожал Назиму руку и сказал:
– Мне понравилось твоё выступление. Полагаю, у тебя большое будущее. Я был наслышан о тебе. Знаю и о твоих успехах на прежних местах работы. Молодец! Открою тебе секрет: в райкоме ты взят на заметку как перспективный кадр партрезерва...
И двух месяцев не прошло с того разговора, как Назим был утверждён инспектором райотдела образования…
* * *
В новой должности обнаружил он всё те же неизменные свои прилежание и инициативность, чем и здесь снискал себе всеобщее уважение. На второй год работы его пригласили в партийный комитет. Кямал Кафарзаде встретился с ним конфиденциально.
– А не засиделся ли ты у нас в «просвещенцах», как думаешь? Есть мнение о целесообразности перевода тебя на комсомольскую работу. Вот и в райкоме комсо-мола как раз освободилось место второго секретаря. Поработаешь с молодежью, а там посмотрим. Проявишь себя, оправдаешь доверие товарищей, дальше продви-гать тебя станем. Уверен, ты справишься. Твои опыт, знания тому порукой.
Предложение Кафарзаде было для Назима полной неожиданностью. Он был совершенно растерян.
– Товарищ Кафарзаде, – после некоторой паузы промолвил Назим, – я, конечно, весьма признателен вам за доверие, но сейчас мне затруднительно сказать что-либо определённое в данной связи. Я должен всё хорошенько обдумать. Если можно, дайте мне время до завтра.
– Пожалуйста, не возражаю, – улыбнулся первый секретарь.
Когда они встретились на следующий день, разговор у них, в отличие от да-вешнего, протекал довольно напряжённо. Ответ Назима на предложение Кафарзаде прозвучал так:
– Я много думал и вынужден сказать: мне трудно принять ваше предложение.
– Отчего же?
– Поверьте, я очень благодарен вам за оказанную мне честь. Признаться, до сих пор мне неведомы случаи, когда кто-либо отказывался от высокой должности. Обыкновенно все с радостью её принимают. Но вот вопрос: все ли достойно испол-няют таковую? Правду сказать, меня всегда удивляли люди, безответственно согла-шающиеся заняться работой, к которой у них нет никаких способностей...
Секретарь внимательно слушал Назима. Тот же делал своё признание, не прерываясь.
– Товарищ Кафарзаде, возможно, у меня и были какие-то заслуги в секторе просвещения. Но я совсем не уверен, что оправдаю ваши ожидания, работая в комсомоле. Не хотелось бы, чтобы после вы разочаровались во мне, а я сокрушался в связи с тем, что в должный момент не проявил надлежащих воли и твёрдости.
Эти слова, сильно не понравившиеся Кафарзаде, заставили его нахмуриться. Назим между тем выказывал очевидную непреклонность в своём решении:
– Молодежь призвана нести наш свет в будущее. Работа с нею необычайно ответственна. Почёт, просторный кабинет, мягкое кресло… если б из чистой корысти я всем этим прельстился, то не только унизил бы себя, но также предал бы доверие, которое столько лет вы мне оказывали.
Кафарзаде не стал пытаться переубедить Назима и коротко подвёл черту под разговором:
– Хорошо, можешь идти. Только не забывай, что упрямство – не лучшее из свойств характера. Пожалуй, ты прав – я действительно ошибся с выбором твоей кандидатуры.
– Очень прошу вас не сомневаться в моей искренности. И ещё: мне совсем не хотелось бы, чтобы моё чистосердечие вы расценивали как упрямство. – Сказав это, Назим попрощался с районным начальником и быстрыми шагами покинул его кабинет.
В основе отказа Назима, кроме прочего, лежало ещё и крайнее его нежелание расстаться с полюбившейся ему инспекторской работой и с коллегами из отдела просвещения. То, что первый остался явно им недоволен, не особенно заботило На-зима. Однако вскорости ему пришлось дорого заплатить за собственную принципи-альность. Когда на заседании бюро райкома обсуждался вопрос о приёме Назима из кандидатов в члены партии, Кафарзаде неожиданно обратился к присутствующим:
– Какова, на ваш вкус, должность секретаря комсомола?
Сидевший справа от местной партийной верхушки вытянулся по стойке «смирно» председатель райисполкома. Поправив на себе галстук, он отчеканил, как солдат на плацу:
– Должность секретаря комсомольской организации очень почетна, товарищ Кафарзаде!
– А вот нашему уважаемому Назим-муаллиму она не по душе, – с иронией заметил Кафарзаде. – А теперь скажите-ка, получится ли добрый коммунист из человека, которому не нравится комсомол?
– Не получится, товарищ Кафарзаде! – грянули дружно члены бюро.
– Что ж, в таком случае предлагаю отказать первичной парторганизации в ут-верждении их решения о приёме в партию уважаемого Назим-муаллима. Накинем ему ещё годок испытательного срока. Покажет себя должным образом, тогда и вер-нёмся к рассмотрению данного вопроса, – завершил обсуждение первый секретарь.
Назим отлично понимал, что защищаться перед этими людьми ему и бес-смысленно, и опасно. Предприми он это, как его немедленно выкинули бы из канди-датов в члены партии. А это грозило не только последующим вылетом со службы, но того поболее – получением «волчьего билета». В лучшем для Назима случае его услали бы учительствовать в какую-нибудь глухомань. Да и там все чурались бы его, будто прокажённого: как же, «исключённый»!
Приняв все эти доводы рассудка, Назим и предпочёл благоразумно на засе-дании промолчать.
После того как его документы были возвращены в партячейку, инспектор в течение какого-то времени ничего не способен был делать и взял себе в привычку затворяться в своём кабинете. Настоящей пыткой было для Назима выслушивать один и тот же постоянно задаваемый ему вопрос:
– Назим-муаллим, слышали, вы не прошли бюро – что ж такое могло случиться?
Через месяц он вышел в очередной отпуск и вместе с Сариёй отбыл в Чичекли.
Аллахверян-киши уже был осведомлён о постигшей сына неприятности, но в беседах с ним избегал её касаться. А иногда, как бы в поддержку Назиму, разра-жался гневными тирадами, которые иначе, как «антипартийными», было не назвать.
– Партком… партбюро… – всё это чушь собачья. Я поди не партийный, а живу - не тужу. Да взять хоть наше село! Сколько тут таких, что партийный билет в кармане имеют, а хлеба вдоволь и приличных портков – нет. И все, заметь, ко мне за помощью ходят. Тот же, к примеру, Субханверди со взгорка: что имел, ну всё распродал, подмазать парткома, чтобы тот в коммунисты его принял. И что же, партком его разорил в прах, а партбилет свой этот самый Субханверди только уж после, с превеликим трудом, себе выправил. И вот сейчас беднягу ниже пса шелудивого в селе ценят. Чтоб голодом не мучиться, спит день-деньской. Его даже в садовые сторожа не взяли…
Прошло более десяти месяцев. Пресловутый конфуз на партбюро постепенно позабылся. Назим работал в прежней своей должности. Верхом объезжал село за селом, инспектируя тамошние школы, помогал должным образом организовать на местах учебный процесс, объявлял поощрения, выносил порицания… Назим доско-нально знал практику просвещения на селе и отличался высокой требователь-ностью, вследствие чего во многих школах района его сильно побаивались. Когда в какой-либо из таких школ узнавали о предстоящем его приезде, их оперативно приводили в образцовый порядок. Всем известно было, что инспектор чрезвычайно дотошен и зорок. Однако руководила им не мелочная привередливость, его забота была – добиться максимально качественного преподавания в районе.
Как-то раз Назим проводил инспекцию в школе одного из самых дальних сёл Чайговушана. В тот же день, под вечер, инспектору сообщили, что его по телефону спрашивали из райкома, приказав завтра утром явиться на приём к первому сек-ретарю. При этом известии у Назима кольнуло в сердце. Он почувствовал неладное. Наверняка Кафарзаде приготовил ему какой-то подвох, а иначе, спрашивается, зачем этакая спешка? Назим оседлал коня и уж было тронулся в обратный путь, как к нему подступили жители села, настойчиво отговаривая от поездки. «Уж ни зги не видно, – урезонивали они инспектора. – Добро бы ещё дороги были сносные, так нет. Между тем двигаться придётся через горы, долины, леса. Ко всему прочему и зверья по ночам в округе – прорва!»
Назим не боялся ездить потемну. Лишь одно внушало ему опасение – как-то выдержит путь его лошадь. Дело в том, что по дороге сюда она потеряла целых две подковы. Услышав об этом, школьный директор сейчас же послал за кузнецом. Однако тот уведомил всех, что лошадью Назима сможет заняться лишь после того, как подкуёт пяток-другой рабочих буйволов. Словом, Назим решил, что заночует здесь, а в райцентр выедет на рассвете. Для его буланого, будь он подкован, дорога, подобная предстоящей, была сущим пустяком. Конь, однако, имел особый норов – он не подпускал к себе чужаков, а потому Назим принуждён был сам отвести его в кузницу. При виде инспекторова скакуна глаза у кузнеца весело сверкнули.
– Отличный конь, – восхитился он. – Пежинки все одна к одной. И содер-жишь ты его хорошо. Верно говорят: ходишь за конём – ты всегда верхом. – И при-бавил: – Однако он не местной породы, не в наших краях, видать, покупал.
– Да, это привозной конь, – подтвердил Назим.
– Тогда скажи мне, как подковывать его следует, только задние копыта, или как?
– По твоему усмотрению, – ответил Назим.
– Есть российские подковы, но только я бы их не рекомендовал. В России одни равнины, камня не сыщешь в собаку запустить, так что русские подковы для каменистых наших мест не пригодны. Однако хозяин коня – ты, потому-то я и спрашиваю: если животное казённое, то, может, и русские подойдут?
– Ставь, какие находишь нужным, – улыбнулся Назим и подвёл буланого к кузнецу. Тот обмотал хвост вокруг задней ноги коня и стал очищать копыта от грязи.
– Кажется, правую ногу ему недавно гвоздём повредило, оттого-то бедняга и пугается, когда копыта ему чистят, – заметил кузнец. – Небось, побывал в руках у клепалы, полного олуха по лошадиной части. Ведь нынче всякий, кто за молоток ни возьмётся, уж мнит себя мастером-кузнецом. Я же, дурак, почитай полвека как в ремесле, а всё дрожу, лишь только к инструменту прикоснусь, видит Аллах! Всего-то раз случилось промахнуться – гвоздь не по месту вбить. Было то с мулом Гаджи Гараша, целый месяц потом тот хромал. Добрым стало мне уроком. С той поры, приведи ко мне хоть слона, пока всё хорошенько ни осмотрю, ни ощупаю – за дело не возьмусь...
Так, непрестанно разглагольствуя, кузнец через какое-то время набил буланому последнюю подкову. Назим полез в карман за деньгами, но кузнец жестом остановил его и, кулаком отерев со лба пот, произнёс:
– Сынок, ко мне ведь и из соседних сёл ходят. Столько, знаешь ли, быков да лошадей на дню!.. Так неужто ж обеднею я, если даром окажу услугу гостю? Не за всё ж деньги-то брать. Ты уж не обижай меня…
Предусмотрительно с вечера распрощавшийся с местными учителями, Назим при первых же рассветных лучах пустился в путь. До сих пор он умел предугады-вать своё будущее и вот теперь напряжённо размышлял, как-то собирается обойтись с ним начальство. В том, что ожидает его очередной перевод по службе, у инспек-тора не было никаких сомнений.
К своей работе Назим был привязан в немалом ещё и из-за буланого. Конь этот, превосходно обученный, закалённый фронтовой жизнью, казалось, наделён был чуть не человеческим разумом. Автомобили в те времена были большой ред-костью. Легковых, всего-то две их в районе и было, и обе – марки «виллис»: одна принадлежала райкому, другая – райисполкому. Поэтому главным транспортным средством здесь по-прежнему оставалась лошадь. После расформирования боевой кавалерии сотни тысяч верховых лошадей распределены были по учреждениям, предприятиям и хозяйствам. Так-то и получил буланый свою приписку к райотделу просвещения. Быстр он был, как пуля. Мало нашлось бы в районе скакунов, способ-ных сравниться с ним в прыти, а также и в отваге. Раз случилось Назиму проезжать с ним через какое-то село, как вдруг откуда ни возьмись на них налетела стая из дес-яти-пятнадцати собак. Так вот, ни одна из них и на шаг не приблизилась к буланому: плотно прижав к голове уши, он с такой яростью ринулся на них, что огромные псы, пригнув шеи и жалобно скуля, врассыпную припустились прочь.
Когда они вступили в долину, Назим отпустил повод, и конь во весь опор пом-чался по просёлку, оставляя за собой дробные ряды отпечатков новеньких подков. Считанные минуты – и позади осталась череда реденьких дубовых рощиц. Не сни-жая скорости, перевалили они через цепь невысоких, заросших кустами-колючками холмов, за которыми виднелся вдалеке полный лошадей загон. Назим повернул коня влево, чтобы объехать табун по другой тропе. И к тому имелась веская причина. По личному опыту инспектор знал, что стоит только его коня увидеть молодому жереб-цу, как тот немедленно затеет с буланым драку. Последнему же, как бы хорош он ни был, с необъезженным, вольно выпасаемым жеребцом было не сладить.
Объездной тропой обогнув долину, они въехали на просечённый ручьём луг, под сень огромного, стоящего у самой воды дуба, и стали на привал. Отстегнув от седла торбу с перемешанными сеном и овсом, Назим надел её на морду буланого. С хрустом пережёвывая корм, конь быстро опустошил полмешка, фыркнул и стал бить копытами, что означало: наелся, торбу можно снять. Назим не замедлил удовлетворить требование четвероногого друга, после чего подвёл его к ручью. Конь приник губами к студёной воде и досыта напился, потом обратил морду к хозяину, благодарно прянул ушами и срыгнул часть своего обеда. Назим заметил, что удилами у коня натёрты губы. Вытянув вперёд шею, буланый со сластью встряхнулся, при этом в ноздри Назиму бросился приятный его нюху ядрёный дух конского пота, дохнувший из-под седла и смешавшийся с ароматом разнотравья. И сей же миг, от сознания возможного скорого расставания с этим дорогим ему существом, проняла Назима неизъяснимая печаль. Увлажнившимся взором глянул он на своего любимца. И, словно понимая происходящее в душе у хозяина, конь потянул к нему шею, и Назима обдало тёплое, пахнущее сеном и овсом дыхание, неожиданно навеявшее на него воспоминания о первой его любви.
– Я, Разия и буланый… Как же чудесно было бы нам втроём у этого родника, под сенью могучего дуба! – прошептал Назим. Глубоко вздохнув, он вскочил затем на спину коню и послал его вперёд. Сразу же взявший лёгкую иноходь, буланый мягко, как дитя в колыбели, покачивал хозяина, словно бы желая тем отвлечь его от тягостных мыслей. Между тем объект размышлений Назима уже успел поменяться. Пожалуй, думал он, Кафарзаде затеял вновь принежить меня обушком...
* * *
В сползших на нос очках, склонившись над рабочим своим столом, Кямал Ка-фарзаде с увлечением что-то писал. Когда появился в его кабинете Назим, первый секретарь снял очки, распрямился и предложил вошедшему присесть.
– Вначале ответь-ка мне, поумнел ты за это время или нет? – обратился он к инспектору.
Назим промолчал. Кафарзаде поднялся из-за стола и стал медленно прохажи-ваться туда и сюда вдоль ряда больших, забранных белыми шёлковыми занавесями кабинетных окон.
– Не скрою, Назим, отношусь я к тебе с уважением и доверием. И с любовью, заметь. Вижу, парень ты смелый, трудолюбивый, инициативный. Никто не заинте-ресован в потере такого кадра. И моя цель: двинуть тебя на важнейший идеологи-ческий участок, открыть тебе двери в будущее. – Первый секретарь вернулся за свой стол и затем продолжил: – Говорю с тобой как отец с сыном. Будем откровен-ны, в прошлый раз поступил ты неразумно. Комсомол – дело неплохое. Смущало тебя отсутствие опыта в этой работе? Ну, право же, нашёл, о чём беспокоиться! Человек ещё и не то сдюжить способен. Как сказал один из педагогических светил: природа не создаёт индивида с врожденными идеями и повадками, всё это приходит к нему в процессе социальной жизни... Лишь обладающему обострённым чувством ответственности уготовано достичь высокой цели. А ты, я убеждён, именно из та-кой породы людей – умный, принципиальный, хваткий. Отряди тебя сейчас хоть в хирургию – через месяц-другой операции делать наладишься. Я вижу твой огром-ный потенциал. Диплом – всего лишь корочка, удостоверяющая образовательный статус. Нам же не «корочки» нужны, а люди, толковые, энергичные. Возьмём наш район. Могу назвать тебе у нас чуть не сотню учёных людей. Впечатлённые их регалиями и научными степенями, в своё время мы активно двигали их в руководители предприятий и хозяйств. Результат – горькое разочарование. Между тем сколько угодно есть таких, что имя своё едва написать умеют, а отдай в их руки груду лысых скал, они за год Эдем на ней взрастят. – Во взоре Кафарзаде появилась озабоченность. – Политический и экономический кризис, ныне поразивший страну, – закономерное следствие кризиса интеллектуального. Когда интеллектуальный ресурс в обществе истощён, нечего ждать социальной стабильности и прогресса. И в городе, и на селе, в нашей стране и во всех прочих – повсеместно движителем прогресса является единственно он, интеллект. Иногда говорят, будто сильнейшим надлежит почитать государство, у которого больший-де золотой запас. Чушь! Любую державу, обладай она хоть всем золотом мира, неизбежно ждёт крах, не располагай она в достатке толковыми, предприимчивыми, талантливыми кадрами. Район же – это как бы государство в миниатюре. Вот и приходится нам, его руководителям, за отсутствием самородков днём с огнём песчинки золотые по весям выискивать.
Назим до некоторой степени разделял мнение первого секретаря, однако ни-чего говорить в данной связи не стал. Он ждал, когда тот, закончив с околич-ностями, перейдёт, наконец, к главному.
Тем временем Кафарзаде снял со своего стола газету, всю исчёрканную ка-рандашными пометками, и тряхнул ею в воздухе.
– Ну разве это газета?! – гневно воскликнул он. – Сплошь ошибочные мысли, путаные фразы! Что может подумать про такую газету здравомыслящий читатель! – И, приняв озадаченный вид, поменял тон: – Редактор – товарищ неплохой и, правду сказать, писать умеет. Но он – один, а потому нуждается в помощи. За последние два года мы сменили ему трёх ответственных секретарей – ни в одном не выявилось должной квалификации. Теперь вот ищем на эту должность нового – подходящего человека. Но найти его непросто. Подумали мы тут все вместе и решили предложить эту работу тебе – лучшей кандидатуры, рассудили, нет. Ре-дактор, кроме прочего, пожелал учиться, настаивает, чтобы я направил его в партийную школу. С одной стороны, противиться его намерению я не могу, а с дру-гой, – кто, спрашивается, его заменит? Словом, районную нашу газету мы готовы вверить тебе. Разумеется, на первых порах придётся тебе туговато, но я уверен, ты справишься. Многие известные наши писатели и журналисты начинали как учителя…
Назим понял, что, прояви он несговорчивость и в этот раз, с мечтой о парт-билете распрощаться придётся навсегда. Между тем до окончания кандидатского срока, вновь ему назначенного на злополучном партбюро, оставалось всего-то полтора месяца. Служба в газете не была Назиму по сердцу, но возможности выбора ему не оставили. Кусая губы, он продолжал медлить с ответом, раздираемый противоречивыми чувствами. Но в конце концов всё же произнёс: «Согласен!» – как мечом полоснул.
Назим не знал, с кем поделиться ему новой своей бедой. Где он, и где – газета, думал, теперь уже бывший, инспектор. Увы, за спиной не было у него человека, кому безусловный авторитет позволил бы вступиться за Назима перед первым секретарём и сказать последнему: что ты делаешь, ведь этот парень – педагог, так зачем же понуждать его заниматься делом, в котором он ничего не смыслит, тем самым заведомо обрекая несчастного на срам?! Единственно, на кого мог Назим опереться, были крестьянин-отец на земле и Аллах – на небесах.
Аллахверян-киши был человеком необразованным, из всех наук знавшим лишь одну – как управляться с косой, молотить зерно, строить запруды да ходить за плугом. Тем не менее, со всеми своими проблемами по службе Назим неизменно шёл к отцу, решая их строго по наущениям Аллахверяна. В противном случае Назима – в чём он не раз убеждался – ждала верная неудача. Вот почему уже на следующий день после разговора с Кафарзаде Назим примчался в Чичекли.
Когда Назим закончил свой рассказ, Аллахверян извлёк из кисета щепоть чёрного табака, который растил сам, набил им свою старинную трубку и приложил поверх её чашечки тлеющий уголёк. Глубоко затянувшись горчайшим дымом, старик, наконец, обмолвился:
– Сынок, этого Кафарзаде, о котором ты говоришь, я знаю плохо – так, малозначащие слухи… Пару раз, помню, ты мне о нём сказывал. Дважды приезжал он к нам в село. Всего этого недостаточно, чтобы составить себе надлежащее мнение о человеке. И всё же речи его и поступки говорят за то, что человек он не пустой. Бывали у нас и другие секретари. Вот, скажем, его предшественник – ну истый был болван, трещал сорокой, а о чём – одному бесу ведомо. А твой – этот, когда проводил у нас собрание, держал себя солидно, по-хозяйски. Словом, видно было, человек сидит на своём месте. – Аллахверян вновь пыхнул своей трубкой. – Не думаю, чтобы такой способен был на подлость. Может, ты в нём ошибся? Небось, новая-то должность твоя повыше инспекторской будет? А если так, то никакого подвоха я в его действиях не усматриваю. Мало ли в районе учителей! А вот же тебя из всех отличил, и за то ему, почтеннейшему, спасибо надобно сказать. О тебе плохо думать станут, если откажешь человеку, который выказывает к тебе столько уважения. Может, он ещё и испытывает тебя… Не артачься. Говорит – иди, послушайся. А там – как Аллах пошлёт.
Назим не знал, как объяснить отцу, что работа педагога в корне отлична от службы газетчика, и потому прибегнул к иносказанию:
– А если мне прикажут цветы в кадке с извёсткой растить, или реку выпить, или, к примеру, ветер словить – что, и тогда прикажешь подчиниться?!
– Нет, труды эти заведомо тщетны.
– Отец, газетная работа для меня – та же непосильная повинность. Это не моё дело. И если за него я возьмусь, то непременно опозорюсь!
Видя непримиримость сына, Аллахверян не стал более его урезонивать. На время старик замолчал, его трубка погасла. Аллахверян весь как-то скоро- бился. Глаза его были сощурены, на лицо легла тень. Подумав, он возобновил разговор:
– Сынок, ведь человек Кафарзаде не маленький, как-никак глава района. В краю нашем власти над ним нет. Так стоит ли с киркой против горы идти?! Не покоришься ему сегодня – глядишь, слезами завтра обольёшься. И долго-долго ещё будет головёнка у тебя болеть. Постой, мне сейчас мыслица одна на ум пришла. Давай-ка поступим по-моему, а там посмотрим. Всё в руках Аллаха! Сладится – вино выкрепнет, а нет – так уксусом удовольствуемся. Словом, как, говоришь, зовут самого главного в той газете?
– Захид… Захид Мамедов, – ответил Назим.
– Ага, зятёк, значит, нашего кума Назара. Фарамаз, если не ошибаюсь, через жену свою приходится дальним родственником этому самому Захиду. Назар - чело-век верный и по сию пору ни в чём мне не отказывал. Потолкую с ним, попрошу, чтобы вместе с зятем своим сходил к этому, ну, главному в газете. Пусть тот сам придумает, как тебе дорожку к газете заказать. Выгорит у него, не выгорит – один чёрт: с тебя взятки гладки. Разве не он, Мамедов, самый главный в газете? Вправе, значит, рожками взбоднуть – не желаю, дескать, этого Назима, где – учитель, а где – газета!
…Аллахверян любил повторять: каждого жалуй по его сану. На следующее утро он призвал к себе на подворье нескольких женщин-соседок, которые пригото-вили для него превосходный пирог и напекли чуть не гору печенья. Из своих ульев достал он несколько рамок сот с отменнейшим мёдом, которые упаковал отдельно и с вящим тщанием. Этот ворох снеди старик отправил с кумом Назаром и его зятем Фарамазом редактору районной газеты, и все полтора дня, что те отсутствовали, прождал своих гонцов, прислушиваясь к каждому шороху на улице. Напряжён был также и Назим.
Увы, затея Аллахверяна не удалась.
– Эх, кум! – по возвращении из райцентра отчитался о поездке Назар. – Как мы с Фарамазом ни бились – редактор ни в какую. Клялся-божился, что дело это не по его зубам. Уж и супруга Захида к нему вместе с нами приступила – упёрся, не сдвинешь. И мне: ты, говорит, Назар, проделал немалый путь, добро тебе пожаловать, в доме у меня для дорогого гостя всегда найдется место, можешь, если хочешь, взять спички и сжечь этот дом дотла, слова тебе не скажу, не будь я мужчина. Однако, говорит, в дела райкомовские встревать – от этого меня уволь: у Кафарзаде такой характер, что к нему лучше не соваться.
Наутро Аллахверян проводил сына в обратный путь и на прощание сказал:
– Сынок, чему быть, того не миновать. Перед волей Аллаха все мы бессиль-ны. Да и то сказать, люди, что в газетах работают, поди, не поумнее твоего будут. Слава Всевышнему, никто на свет не родится с печатью «газетчик» на лбу, так что не пререкайся-ка ты с начальством, а доверься Аллаху и ступай, куда Он указует...
Так в жизни Назима открылась новая страница. Теперь уже он не мог ви-деться регулярно, как то было прежде, с коллегами – школьными педагогами и с товарищами – работниками отдела просвещения. Прежняя служба… буланый… постепенно всё это отходило в прошлое...
Перевод Ровшэна КАФАРОВА
(Окончание следует)
|
|